"Это не было самоубийством, и я хочу, чтобы вы нашли того, кто это сделал". Полицейский надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Федор Иванович Гуров хмуро ждал, пока посетительница замолчит, чтобы начать неприятные, но ставшие привычными за годы службы увещевания. Эти "Вы уверены?", "Но, может быть…" и "Знаем ли мы кого-то настолько хорошо, чтобы утверждать…" должны были подвести к мысли, что гимназистка действительно могла повеситься от несчастной любви, которую проморгала безутешная мамаша, сын известного купца мог быть пойман при попытке ограбления ювелирной лавки, а какой-нибудь великовозрастный дворянский Николя вполне мог быть задержан за участие в поножовщине, случившейся в самом дешевом кабаке Выборгской стороны.
Но тут ситуация была несколько иной. Алексей Кириллович Алчевский, крупнейший промышленник империи, бросившийся под поезд в Царскосельском вокзале Санкт-Петербурга неделю назад, никак не мог считаться отбившимся от рук отроком. Да и человеком, чья жизнь была настолько скрыта от близких, что они пропустили причины, приведшие к такому трагическому финалу, он не был. С другой стороны – экономический кризис, сотрясающий Россию в последние годы, породил целую волну самоубийств. Не в силах рассчитаться по долгам, десятки коммерсантов вешались, стрелялись и топились. К тому же многие вполне уважаемые люди исчезали с чужими деньгами, пускались в аферы и вообще, совершали безумства, до того для них не характерные. В общем, кризис и страх потерять средства к существованию проявил далеко не лучшие человеческие качества. На этом фоне самоубийство, штука, по мнению Гурова, в высшей степени глупая, даже отдавало каким-то благородством: не смог человек, не справился - и подвел черту, избавив мир от своего неудачного пребывания в нем.
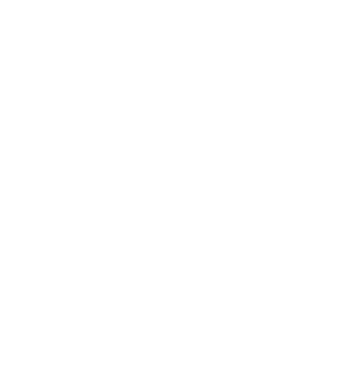
Алексей Алчевский
Впрочем, в самоубийстве Алевского ничего благородного не было. Гуров выезжал на место происшествия и видел разрубленное на куски тело промышленника. Тогда подумалось: если бы граф Толстой воочию видел то, что может совершить поезд с человеком, то свою героиню направил бы не под колеса железнодорожного состава, а к реке – топиться на фоне природных красот - или домой, в петлю. Хотя и вздувшихся утопленников, и начавших разлагаться тел повешенных Гуров видел на своем веку немало, привыкнуть до конца к этому так и не смог и считал всякую насильственную смерть отвратительной прежде всего эстетически. Эта сторона была ему куда более неприятной, чем другие, моральные и этические, аспекты принудительного прекращения человеческого существования.
Дело Алчевского было совершенно ясным: кризис – крах – самоубийство. Связь очевидная и даже банальная. Было в этом только два момента, которые вызывали даже не сомнения, а скорее - тень сомнений. Во-первых, собственно того, как промышленник бросился под поезд, никто не видел. Публика на перроне была увлечена голубями, которые вырвались на волю из случайно перевернутых носильщиком клеток. Лишь через минуту женский визг возвестил мир о том, что известный промышленник отошел в мир иной, оставив этому миру отрезанные ноги в дорогих штиблетах, вид которых настолько впечатлил визжащую барышню, что пришлось вызывать карету скорой помощи. Во-вторых, через 20 минут с того же перрона должен был отходить поезд на Харьков, место обитания покойного, и вполне можно предположить, что промышленник находился на вокзале с целью отбыть домой, а не совершить самоубийство. Но с другой стороны, Анна Каренина тоже расставание с жизнью именно таким способом не планировала и поддалась порыву. Промышленник - это, конечно, не запутавшаяся в личных перипетиях неверная жена. Но он тоже вполне мог решить освободиться от оков бытия мгновенно, вдохновившись, например, видом летящих в небо голубей, выпущенных на волю незадачливым носильщиком.
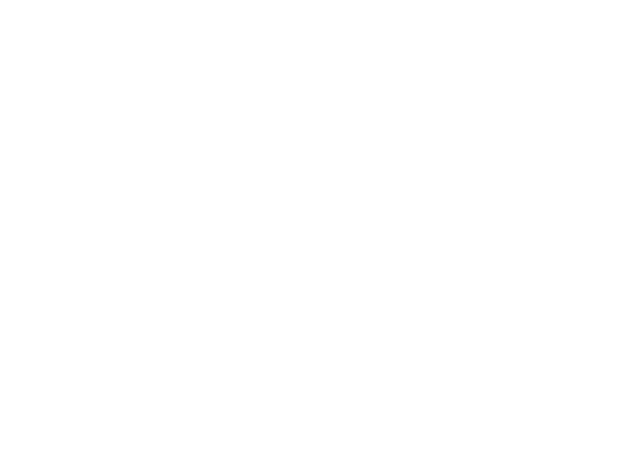
Царскосельский вокзал
Эти две "тени сомнений" никого бы не убедили продолжать расследование. Просто потому, что на гигантский Санкт-Петербург, население которого перевалило за миллион, было всего 20 полицейских надзирателей, чаще называемых точнее – сыщиками. Хотя и в слове "надзиратель", к сожалению, была своя правда: в силу отсутствия времени часто приходилось лишь "надзирать" за преступлениями, выполняя только начальные действия по установлению преступника, а иногда - просто фиксировать беззаконие. Эта ситуация была предметом десятков челобитных в высшие инстанции, но воз был все там же. Тем временем Санкт-Петербург окончательно стал криминальной столицей империи. Так что заниматься почти очевидным самоубийством Гурову было некогда. Тем не менее, он предпринял несколько мер по расследованию, отдавая должное положению покойного, но мер весьма поверхностных, к тому же никак не опровергших в итоге версию самоубийства.
Теперь женщина, стоявшая перед ним, требовала возобновить следствие по делу. "Вызвать бы сейчас охрану да выпроводить посетительницу", – думал с тоской Гуров, но жена крупнейшего промышленника вряд ли одобрила бы подобное к себе отношение, а последствия такого поведения могли быть крайне негативны для карьеры. К тому же эта женщина с крупным носом и узкими губами излучала такую монументальную решимость, что Гурову вспомнилась картинка в одном журнале. Это был "Самоход" некого изобретателя Блинова –конструкция с огромными колесами, вокруг которых были обернуты "бесконечные рельсы" - замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Вид эта штука имела настолько устрашающий, что на нее, несмотря на вполне мирное предназначение, прямо просилось артиллеристское орудие, и крошащая все на своем пути машина была бы готова.
Именно эту конструкцию напоминала Христина Даниловна Алчевская: пушки вроде нет, но если надо – раздавит, проедется, перемолов железными лентами.
Через секунду появилось еще одно обстоятельство, которое заставило Гурова проявить к посетительнице серьезный интерес. Она сказала: "Я вам заплачу. Три тысячи".
Жалованье за два года службы было, конечно, весомым аргументом. Существование в столице на те гроши, что выделяла казна на содержание полицейских надзирателей, было почти не возможным, и Гурова отчасти спасало лишь то, что был он бездетным вдовцом. Это же обстоятельство не давало от патологического безденежья пойти по пути откровенного мздоимства - пути, по которому, что греха таить, пошли многие его коллеги. Эта ситуация тоже была предметом многочисленных челобитных, но воз находился все там же, где и воз трудностей с количеством полицейских.
Деньги Гурову, конечно, были нужны - он не был ни святым, ни бессребреником. Тем более, деньги предлагались за честную работу, а не за нарушение должностных установлений. Была лишь одна главная трудность – результат.
Теперь женщина, стоявшая перед ним, требовала возобновить следствие по делу. "Вызвать бы сейчас охрану да выпроводить посетительницу", – думал с тоской Гуров, но жена крупнейшего промышленника вряд ли одобрила бы подобное к себе отношение, а последствия такого поведения могли быть крайне негативны для карьеры. К тому же эта женщина с крупным носом и узкими губами излучала такую монументальную решимость, что Гурову вспомнилась картинка в одном журнале. Это был "Самоход" некого изобретателя Блинова –конструкция с огромными колесами, вокруг которых были обернуты "бесконечные рельсы" - замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Вид эта штука имела настолько устрашающий, что на нее, несмотря на вполне мирное предназначение, прямо просилось артиллеристское орудие, и крошащая все на своем пути машина была бы готова.
Именно эту конструкцию напоминала Христина Даниловна Алчевская: пушки вроде нет, но если надо – раздавит, проедется, перемолов железными лентами.
Через секунду появилось еще одно обстоятельство, которое заставило Гурова проявить к посетительнице серьезный интерес. Она сказала: "Я вам заплачу. Три тысячи".
Жалованье за два года службы было, конечно, весомым аргументом. Существование в столице на те гроши, что выделяла казна на содержание полицейских надзирателей, было почти не возможным, и Гурова отчасти спасало лишь то, что был он бездетным вдовцом. Это же обстоятельство не давало от патологического безденежья пойти по пути откровенного мздоимства - пути, по которому, что греха таить, пошли многие его коллеги. Эта ситуация тоже была предметом многочисленных челобитных, но воз находился все там же, где и воз трудностей с количеством полицейских.
Деньги Гурову, конечно, были нужны - он не был ни святым, ни бессребреником. Тем более, деньги предлагались за честную работу, а не за нарушение должностных установлений. Была лишь одна главная трудность – результат.
- Вы же понимаете, я не могу гарантировать успех этого расследования. Тем более, пока факты вообще никак не свидетельствуют в пользу вашего утверждения, - сказал Гуров. - Это первое. Второе – я вынужден буду потребовать аванс на расходы. Есть еще третье. Для проведения расследования мне, возможно, придется посетить Харьков, потому что расследование в Санкт-Петербурге ничего не дало и вряд ли даст. Там, в Харькове, я буду задавать неудобные вопросы, часто выходящие за рамки приличия и могущие показаться оскорбительными. Вы должны быть к этому готовы.
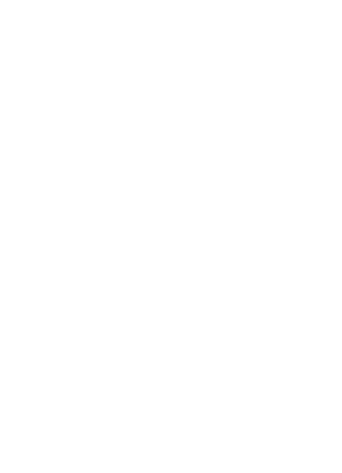
Христина Алчевская
Гуров понимал, что вдова вполне может не согласиться с требованиями. Но с другой стороны – начинать столь скользкое предприятие, не оговорив условий, было бы бессмысленно, да и опасно: дело вполне могло обернуться для Гурова, например, "вымогательством" денег с безутешной вдовы, к тому же вдовы богатой и влиятельной. Да и вообще, всякое серьезное расследование для лиц, к нему имеющих отношение, всегда вещь неприятная, чреватая для расследователя осложнениями. Тем более, предстоит расследовать смерть одного из самых богатых людей империи, чье состояние в лучшие времена оценивалось в тридцать миллионов рублей. Круг людей, куда придется погрузиться, а вернее – подняться Гурову существенно отличался по влиянию от круга приказчика или мелкого чиновника. Быть прихлопнутым, подобно назойливой мухе, каким-либо раздосадованным представителем высшего общества, пусть даже провинциального, Гуров не хотел. Да и провинциальность Харькова была весьма необычной: двух предыдущих генерал-губернаторов Санкт-Петербурга перевели в столицу именно из Харькова. А это значит, что Харьков - город богатый, с весьма влиятельной верхушкой. Так что предварительная договоренность с инициатором расследования, конечно, ни от чего не гарантировала, но была не лишней.
Вдова промышленника начала с самого понятного.
- Аванс будет. 500 рублей. Жизнь в Харькове дешевле, чем в Санкт-Петербурге, и это покроет ваши расходы. За дополнительными расходами обращайтесь ко мне. Разумеется, я должна знать не только о предприятиях, требующих оплаты. Вы должны меня ставить в известность о ходе расследования. Это первое, – вдова легко перешла на стиль Гурова, нумеруя разложенные по полочкам соображения.
- Второе. Слово мое еще что-то значит в Харькове, поэтому мое покровительство избавит вас от неприятностей, могущих возникнуть в связи с вашей… деятельностью. И третье – результаты. Вам придется смириться с тем, что их буду оценивать я, и я оставляю за собой право решать, добились вы успеха или нет. Также я буду решать, были ли обстоятельства, помешавшие расследованию, непреодолимыми и какая сумма вознаграждения будет уместной. Это может показаться вам неправильным, но иначе – не будет.
Гурову нравилась вычитанная им цитата какого-то француза: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вдова мыслила ясно, поэтому ясно и излагала. Все было предельно понятно. Брать время на раздумья означало ломаться, как какая-то курсистка. Бить по рукам с миллионщицами Гуров опыта не имел. Пока он формулировал "Хорошо, я согласен", Алчевская задала вопрос, еще раз говорящий о ясности мысли:
- Каким образом вы поедете? Официальным порядком или частным? Если частным – я смогу организовать несколько рекомендательных писем, которые произведут должное впечатление на наших губернских. Официальным – ваша забота. У вашего начальника я была. Он мне показался человеком дельным и вас, к слову, характеризовал так же. Но влиять на канцелярию столичного обер-полицмейстера я не буду. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму нужность этих… мер.
Разумеется, под "мерами" понималась раздача взяток чинам, влияющим на возобновление официального расследования. Но нужность этих расходов действительно была не очевидной, к тому же способ решения этого вопроса уже был понятен Гурову в общих чертах. Он ответил:
- Думаю, этого не понадобится. Я сам…
- Вот и хорошо, – вдова немного расслабилась, как будто после заключения сложной сделки. - На аванс я выпишу чек. Вы ведь рискнете взять чек вдовы банкрота? – спросила она с усмешкой.
- Рискну, – без тени улыбки ответил Гуров.
Вдова выписала чек и вышла из кабинета, коротко и холодно распрощавшись. Это было неприятно, но, в общем-то, ожидаемо: она только что купила услугу и не обязана была любезничать с тем, кто ее предоставляет. Хотя "братец", сказанное половому в трактире, или "любезный" - слуге кажутся вполне уместными. "Видимо, у миллионщиц свое понимание отношений с нижними чинами", – подумал Гуров и тут же забыл об этой мелочи, сосредоточившись на действительно серьезной проблеме.
Вдова промышленника начала с самого понятного.
- Аванс будет. 500 рублей. Жизнь в Харькове дешевле, чем в Санкт-Петербурге, и это покроет ваши расходы. За дополнительными расходами обращайтесь ко мне. Разумеется, я должна знать не только о предприятиях, требующих оплаты. Вы должны меня ставить в известность о ходе расследования. Это первое, – вдова легко перешла на стиль Гурова, нумеруя разложенные по полочкам соображения.
- Второе. Слово мое еще что-то значит в Харькове, поэтому мое покровительство избавит вас от неприятностей, могущих возникнуть в связи с вашей… деятельностью. И третье – результаты. Вам придется смириться с тем, что их буду оценивать я, и я оставляю за собой право решать, добились вы успеха или нет. Также я буду решать, были ли обстоятельства, помешавшие расследованию, непреодолимыми и какая сумма вознаграждения будет уместной. Это может показаться вам неправильным, но иначе – не будет.
Гурову нравилась вычитанная им цитата какого-то француза: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вдова мыслила ясно, поэтому ясно и излагала. Все было предельно понятно. Брать время на раздумья означало ломаться, как какая-то курсистка. Бить по рукам с миллионщицами Гуров опыта не имел. Пока он формулировал "Хорошо, я согласен", Алчевская задала вопрос, еще раз говорящий о ясности мысли:
- Каким образом вы поедете? Официальным порядком или частным? Если частным – я смогу организовать несколько рекомендательных писем, которые произведут должное впечатление на наших губернских. Официальным – ваша забота. У вашего начальника я была. Он мне показался человеком дельным и вас, к слову, характеризовал так же. Но влиять на канцелярию столичного обер-полицмейстера я не буду. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму нужность этих… мер.
Разумеется, под "мерами" понималась раздача взяток чинам, влияющим на возобновление официального расследования. Но нужность этих расходов действительно была не очевидной, к тому же способ решения этого вопроса уже был понятен Гурову в общих чертах. Он ответил:
- Думаю, этого не понадобится. Я сам…
- Вот и хорошо, – вдова немного расслабилась, как будто после заключения сложной сделки. - На аванс я выпишу чек. Вы ведь рискнете взять чек вдовы банкрота? – спросила она с усмешкой.
- Рискну, – без тени улыбки ответил Гуров.
Вдова выписала чек и вышла из кабинета, коротко и холодно распрощавшись. Это было неприятно, но, в общем-то, ожидаемо: она только что купила услугу и не обязана была любезничать с тем, кто ее предоставляет. Хотя "братец", сказанное половому в трактире, или "любезный" - слуге кажутся вполне уместными. "Видимо, у миллионщиц свое понимание отношений с нижними чинами", – подумал Гуров и тут же забыл об этой мелочи, сосредоточившись на действительно серьезной проблеме.
Ехать в Харьков в частном порядке было крайне неудобно. Правильнее было пойти официальным путем. Во-первых, расследование, проводимое столичной сыскной частью, избавляло от ненужных вопросов и разъяснений, придавая делу официальный характер. Во-вторых, появление Гурова в Харькове в качестве частного лица ставило расследование в сильную зависимость от пусть и ясно мыслящей, но мыслящей непонятно что миллионерши. И в-третьих, в случае возобновления официального расследования можно было рассчитывать на помощь губернских властей. Гуров был крайне не высокого мнения о способностях провинциальных полицейских. С другой стороны, он понимал, что иногда и помощь околоточного может оказаться очень полезной.
Гуров положил перед собой лист бумаги, взял перо в левую руку и стал писать, размашисто и криво, не особо заботясь о том, как чернила ложатся на бумагу.
"Настоящим сообщаю, что 7 мая 1901 года находился на Царскосельском вокзале, где видел, как некий господин разночинского вида толкнул другого под поезд. Позже мне стало известно, что покойный – Алчевский, известный промышленник, и о факте вопиющего преступления я сообщил полицейскому надзирателю". Гуров подумал, что для натуральности надо бы какие-то приметы душегуба описать, и добавил: "Убийца был одет в черный сюртук, бороды не имел и был средней конституции". Описание получилось примерно таким же расплывчатым, как и "разночинский вид", но от лишнего воображения и точных деталей в таких делах Гуров благоразумно воздерживался.
Он приписал большими печатными буквами псевдоним агента -ГОЛИАФ - и в очередной раз усмехнулся такому прозвищу, вспомнив, что Голиафом он пару лет назад назвал тщедушного мелкого вора, который крал неумело, а потому всегда попадался и отчаянно боялся полиции. Но не красть он не мог, а потому был постоянным клиентом или околотков, или больниц для неимущих. В больницы он попадал после общения с дюжими приказчиками, которые были склонны совершать самосуд над воришками, не отвлекая полицию мелочами. В общем, кличка Голиаф очень подходила этому нелепому мелкому существу, вполне отражая нехитрый полицейский юмор.
Писать поддельные донесения было делом обычным. Немецкая система сыска, принятая в России, предполагала дотошное документирование каждого шага и каждой полученной информации. Почему за основу была взята именно эта, немецкая, система, а не английская, где полицейские просто получали средства на агентурную работу и тратили их по своему усмотрению, без всяких бумажек, - было понятно: достаточно лишь посмотреть на фамилии чиновников, возглавлявших в разное время полицейские и охранные ведомства. Однако попав на русскую почву, немецкая педантичность проросла неожиданными последствиями. Например, многие полицейские и те, кто трудился в охранном ведомстве, начали писать поддельные доносы для получения платы за "труды" агентов. Конечно, деньги эти до агентов не доходили, оседая в карманах сыщиков, но начальство смотрело на это сквозь пальцы, понимая, что даже такие мелкие суммы могли стать существенным подспорьем для семей чиновников. В конце концов, раз держава об их благосостоянии не особо заботится – значит, простить этот обман вполне можно. Тем более, такое нарушение куда мягче чем, например, мздоимство.
К тому же фальшивые доносы иногда служили вполне благим целям – например, когда надо было скрыть собственный, тщательно оберегаемый источник, подкрепить свою версию в глазах начальства или, как в случае Гурова, дать официальный ход расследованию. При этом Гуров понимал, что бумажка, которую он написал левой рукой прямо у себя в кабинете, вряд ли способна обмануть проницательного человека, но дело свое сделает.
Гуров положил перед собой лист бумаги, взял перо в левую руку и стал писать, размашисто и криво, не особо заботясь о том, как чернила ложатся на бумагу.
"Настоящим сообщаю, что 7 мая 1901 года находился на Царскосельском вокзале, где видел, как некий господин разночинского вида толкнул другого под поезд. Позже мне стало известно, что покойный – Алчевский, известный промышленник, и о факте вопиющего преступления я сообщил полицейскому надзирателю". Гуров подумал, что для натуральности надо бы какие-то приметы душегуба описать, и добавил: "Убийца был одет в черный сюртук, бороды не имел и был средней конституции". Описание получилось примерно таким же расплывчатым, как и "разночинский вид", но от лишнего воображения и точных деталей в таких делах Гуров благоразумно воздерживался.
Он приписал большими печатными буквами псевдоним агента -ГОЛИАФ - и в очередной раз усмехнулся такому прозвищу, вспомнив, что Голиафом он пару лет назад назвал тщедушного мелкого вора, который крал неумело, а потому всегда попадался и отчаянно боялся полиции. Но не красть он не мог, а потому был постоянным клиентом или околотков, или больниц для неимущих. В больницы он попадал после общения с дюжими приказчиками, которые были склонны совершать самосуд над воришками, не отвлекая полицию мелочами. В общем, кличка Голиаф очень подходила этому нелепому мелкому существу, вполне отражая нехитрый полицейский юмор.
Писать поддельные донесения было делом обычным. Немецкая система сыска, принятая в России, предполагала дотошное документирование каждого шага и каждой полученной информации. Почему за основу была взята именно эта, немецкая, система, а не английская, где полицейские просто получали средства на агентурную работу и тратили их по своему усмотрению, без всяких бумажек, - было понятно: достаточно лишь посмотреть на фамилии чиновников, возглавлявших в разное время полицейские и охранные ведомства. Однако попав на русскую почву, немецкая педантичность проросла неожиданными последствиями. Например, многие полицейские и те, кто трудился в охранном ведомстве, начали писать поддельные доносы для получения платы за "труды" агентов. Конечно, деньги эти до агентов не доходили, оседая в карманах сыщиков, но начальство смотрело на это сквозь пальцы, понимая, что даже такие мелкие суммы могли стать существенным подспорьем для семей чиновников. В конце концов, раз держава об их благосостоянии не особо заботится – значит, простить этот обман вполне можно. Тем более, такое нарушение куда мягче чем, например, мздоимство.
К тому же фальшивые доносы иногда служили вполне благим целям – например, когда надо было скрыть собственный, тщательно оберегаемый источник, подкрепить свою версию в глазах начальства или, как в случае Гурова, дать официальный ход расследованию. При этом Гуров понимал, что бумажка, которую он написал левой рукой прямо у себя в кабинете, вряд ли способна обмануть проницательного человека, но дело свое сделает.
Проницательный человек и не обманулся. Владимир Гаврилович Филиппов, чиновник по особым поручениям при петербургском градоначальнике, и был тем самым непосредственным начальником, к которому до визита к Гурову наведалась Алчевская. Веселый маленький толстяк с пышными усами являл собой разительный контраст с поджарым и монументальным государем-императором, портрет которого висел на стене. Те, кто видел Филиппова впервые, всегда обманывались: этот усатый человек-шарик, напоминавший героя сказки "Колобок", считался едва ли не лучшим сыщиком Санкт-Петербурга и прошел путь от помощника судебного следователя до фактически второго лица в градоуправлении столицы.
Филиппов бросил на стол творение Гурова и, давая понять, что обман этот – ненужная нелепица, не стоящая внимания, заговорил о другом.
Филиппов бросил на стол творение Гурова и, давая понять, что обман этот – ненужная нелепица, не стоящая внимания, заговорил о другом.
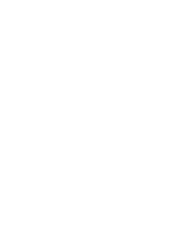
Владимир Филиппов
- Ну что, как вам дамочка эта? А? Могучая женщина! Вы, я смотрю, на ее чары тоже поддались. Укатала она вас, а! Не обидела, надеюсь.
Гуров смешался от этого упоминания денег, но Филиппов его тут же успокоил.
- Ну полноте, дружище. Это ваши дела, и я в них лезть не буду. Не потому, что частный сыск на службе государевой приветствую. А потому, что дело, кажется, обещает быть крайне любопытным. Во всяком случае, разобраться в нем стоит. Не маленький человек под колеса поезда попал, для империи значительный. А то, что расходы на дело не казенные, - так это и для казны экономия, и для вас не так обидно, как крохи государевы, а?
Сказав это, Филиппов непочтительно кивнул в сторону портрета и захохотал. Эта манера чиновника по особым поручениям постоянно выказывать неуважение к самому высокому начальству всегда сбивала Гурова с толку. Работать в стенах, имеющих не только уши, но и руки для написания доносов, и позволять себе подобное вольнодумство казалось верхом безрассудства. А верхом нелепости выглядел тот факт, что Филиппов при всем этом достиг таких карьерных высот.
Впрочем, у Гурова была на сей счет своя теория. Свою карьеру сыщика Филиппов начинал в Царском селе и, видимо, когда-то оказал неоценимые услуги тому, чье покровительство оказалось сильнее любых наветов.
Отсмеявшись, Филиппов бросил взгляд на фальшивку Гурова и брезгливо поморщился.
- Это вы правильно сделали, конечно. К генерал-губернатору я с пустыми руками не пойду, а без его соизволения подобное расследование мы начать не можем. Тем более, для вашего предприятия понадобятся рекомендации за его подписью. Ну ничего, хорошо, что Бог миловал нас начальником столь… бородатым, – и снова захохотал.
Гуров смешался от этого упоминания денег, но Филиппов его тут же успокоил.
- Ну полноте, дружище. Это ваши дела, и я в них лезть не буду. Не потому, что частный сыск на службе государевой приветствую. А потому, что дело, кажется, обещает быть крайне любопытным. Во всяком случае, разобраться в нем стоит. Не маленький человек под колеса поезда попал, для империи значительный. А то, что расходы на дело не казенные, - так это и для казны экономия, и для вас не так обидно, как крохи государевы, а?
Сказав это, Филиппов непочтительно кивнул в сторону портрета и захохотал. Эта манера чиновника по особым поручениям постоянно выказывать неуважение к самому высокому начальству всегда сбивала Гурова с толку. Работать в стенах, имеющих не только уши, но и руки для написания доносов, и позволять себе подобное вольнодумство казалось верхом безрассудства. А верхом нелепости выглядел тот факт, что Филиппов при всем этом достиг таких карьерных высот.
Впрочем, у Гурова была на сей счет своя теория. Свою карьеру сыщика Филиппов начинал в Царском селе и, видимо, когда-то оказал неоценимые услуги тому, чье покровительство оказалось сильнее любых наветов.
Отсмеявшись, Филиппов бросил взгляд на фальшивку Гурова и брезгливо поморщился.
- Это вы правильно сделали, конечно. К генерал-губернатору я с пустыми руками не пойду, а без его соизволения подобное расследование мы начать не можем. Тем более, для вашего предприятия понадобятся рекомендации за его подписью. Ну ничего, хорошо, что Бог миловал нас начальником столь… бородатым, – и снова захохотал.
Дело в том, что Клейгельс Николай Васильевич, санкт-петербургский генерал-губернатор, был человеком во всем образцовым: участвовал в Русско-турецкой войне, боях под Плевной, потом пошел по кавалерийской части… В общем, вполне достойный служака государев, даром что не русский, а из остзейских дворян. Но вот зачем его назначили Варшавским обер-полицмейстером, а потом перевели в Санкт-Петербург, было большой тайной: никакого разумного объяснения этот карьерный кульбит не имел. Дело в том, что Клейгельс был глуповат, к управленческим трудам не склонен, зато чрезвычайно увлечен двумя вещами – лошадьми, коих искренне любил, и своими бакенбардами, которые любил не меньше лошадей. При этом был он характера не злобливого и помышлял лишь о том, чтобы всецело отдаться своим страстям, переложив дела городские на подчиненных. А с подчиненными ему почему-то всегда везло. Может, именно в этом был секрет его карьерного продвижения.
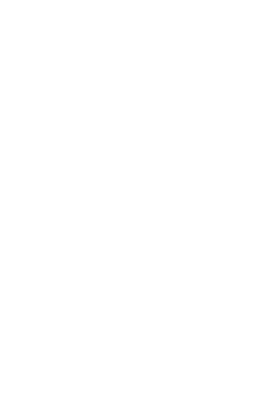
Николай Клейгельс
Филиппов встал, заканчивая беседу, и сказал то, что, как понял Гуров, было самым важным.
- Вот еще что, дружище. И из Харьковской губернии, и с территорий южнее, где как раз вел дела господин Алчевский, доходят до меня тревожные сведения. И ладно бы просто сведения. Людишки оттуда стали приезжать, тут, в столице, не надобные. Фартовые, шушера всякая. В столицу-то много грязи человеческой стремится, но чтобы в таком количестве, из далеко не самых крупных губерний… И это при том, что по криминальной части в самом Харькове - тишь да благодать. Что-то там происходит. Поэтому у меня просьба к вам серьезная. Вы там не только смерть миллионщика расследуйте, но и найдите причину. С людом местным пообщайтесь. Осмотритесь. И запоминайте. Готовьтесь к тщательному докладу. Я на вас рассчитываю. Помните - не только за тысячами миллионщицы вы туда едете, – и Филиппов снова рассмеялся.
Через два дня Гуров сидел в поезде Санкт-Петербург – Харьков и провожал взглядом перрон, с которого все началось. Ехал он первым классом, т.к. весьма серьезная сумма в 32 рубля за билет теперь, при получении наличных по чеку вдовы, уже казалась вполне приемлемой. Из тех же денег был куплено два тома "Очерков и рассказов" недавно появившегося и уже снискавшего себе популярность Максима Горького. Секрет этой популярности, причем популярности в совершенно разных кругах, Гуров рассчитывал раскусить, воспользовавшись внезапно выпавшим на его долю многочасовым бездельем. А в модном кожаном саквояже (опять спасибо авансу) лежало несколько писем, начинающихся со слов "Подателю сего просьба оказывать всякое содействие…". Филиппов выполнил свое обещание, и Гуров ехал в Харьков представителем санкт-петербуржского генерал-губернатора - расследовать дело государственной важности.
- Вот еще что, дружище. И из Харьковской губернии, и с территорий южнее, где как раз вел дела господин Алчевский, доходят до меня тревожные сведения. И ладно бы просто сведения. Людишки оттуда стали приезжать, тут, в столице, не надобные. Фартовые, шушера всякая. В столицу-то много грязи человеческой стремится, но чтобы в таком количестве, из далеко не самых крупных губерний… И это при том, что по криминальной части в самом Харькове - тишь да благодать. Что-то там происходит. Поэтому у меня просьба к вам серьезная. Вы там не только смерть миллионщика расследуйте, но и найдите причину. С людом местным пообщайтесь. Осмотритесь. И запоминайте. Готовьтесь к тщательному докладу. Я на вас рассчитываю. Помните - не только за тысячами миллионщицы вы туда едете, – и Филиппов снова рассмеялся.
Через два дня Гуров сидел в поезде Санкт-Петербург – Харьков и провожал взглядом перрон, с которого все началось. Ехал он первым классом, т.к. весьма серьезная сумма в 32 рубля за билет теперь, при получении наличных по чеку вдовы, уже казалась вполне приемлемой. Из тех же денег был куплено два тома "Очерков и рассказов" недавно появившегося и уже снискавшего себе популярность Максима Горького. Секрет этой популярности, причем популярности в совершенно разных кругах, Гуров рассчитывал раскусить, воспользовавшись внезапно выпавшим на его долю многочасовым бездельем. А в модном кожаном саквояже (опять спасибо авансу) лежало несколько писем, начинающихся со слов "Подателю сего просьба оказывать всякое содействие…". Филиппов выполнил свое обещание, и Гуров ехал в Харьков представителем санкт-петербуржского генерал-губернатора - расследовать дело государственной важности.
В это же время в одном из переулков Лиговки полицейский урядник, не переставая лузгать семечки, осматривал лежащий перед ним труп. Труп был неказист и, кажется, заслуживал такого пренебрежительного отношения со стороны официального лица: одежда – почти лохмотья, лицо, обращенное к небу, - в старых синяках и ссадинах… Все говорило о том, что покойный не принадлежал ни к белой публике, ни даже к приличной. А вот зарезали его вполне благородно – одним ударом в сердце.
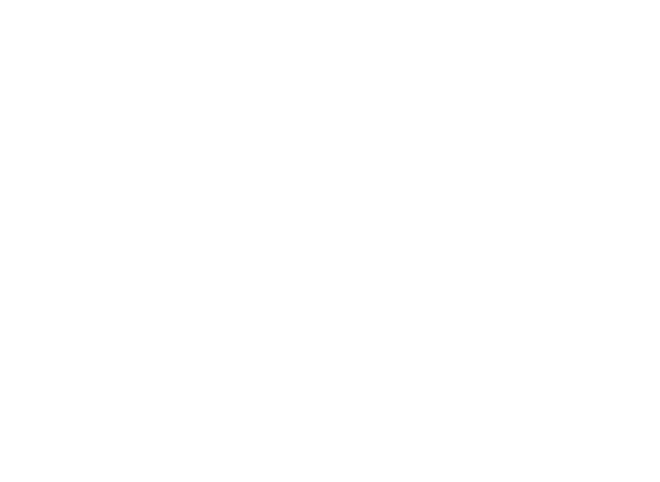
Обитатели Лиговки
Личность усопшего установили быстро. Глава артели лиговских нищих, юркий дядька, знающий все и всех в городе, к тому же ежемесячно заносивший в околоток 50 рублей "за охрану", а потому считающий возможным называть всех знакомых стражей порядка на ты и только по отчеству, один раз взглянул на покойника, перекрестился, сплюнул и изрек:
- Та знаю его, Михалыч. Игла это. Васька Иголкин.
- Кто таков? – спросил урядник рассеянно.
- Та никто. То тут, то там. Цапок. Мелочь.
"Цапок" означало на жаргоне примерно "вор, тянущий или цапающий с прилавков". Причем не столько ювелирных, сколько – продуктовых и даже прилавков базарных торговок. Среди воров эта каста была наиболее презираема, потому что такая "работа" эта не требовала ни мозгов, ни умений: цапнул – беги.
"Добегался", - лениво подумал урядник. Тот факт, что сюда от ближайшего места, где можно было хоть чем-то поживиться, бежать изрядно, и вряд ли кто-то столь долго стал бы преследовать покойного, урядника не удивил. Не удивило его и то, что, догнав, преследующий сумел развернуть цапка к себе, чтобы нанести точный удар ножом. Удивляться лиговский урядник давно разучился - от опыта и за ненадобностью. Не удивился бы он, если бы узнал, что покойный проходил по сыскной части как агент под нелепой для него кличкой Голиаф.
- Та знаю его, Михалыч. Игла это. Васька Иголкин.
- Кто таков? – спросил урядник рассеянно.
- Та никто. То тут, то там. Цапок. Мелочь.
"Цапок" означало на жаргоне примерно "вор, тянущий или цапающий с прилавков". Причем не столько ювелирных, сколько – продуктовых и даже прилавков базарных торговок. Среди воров эта каста была наиболее презираема, потому что такая "работа" эта не требовала ни мозгов, ни умений: цапнул – беги.
"Добегался", - лениво подумал урядник. Тот факт, что сюда от ближайшего места, где можно было хоть чем-то поживиться, бежать изрядно, и вряд ли кто-то столь долго стал бы преследовать покойного, урядника не удивил. Не удивило его и то, что, догнав, преследующий сумел развернуть цапка к себе, чтобы нанести точный удар ножом. Удивляться лиговский урядник давно разучился - от опыта и за ненадобностью. Не удивился бы он, если бы узнал, что покойный проходил по сыскной части как агент под нелепой для него кличкой Голиаф.
Утром понедельника, 27 мая 1901 года, поезд Гурова прибыл на харьковский вокзал. За время пути Гуров осилил очерки Горького и остался недоволен излишним натурализмом, который позволял себе автор. Впрочем, видимо, в этом-то и был секрет успеха: грамотность в последние годы резко возросла, что приобщило к чтению публику, ранее о большой литературе не знавшую. И публике этой не было интересно читать о тусклой жизни умирающих дворянских усадеб. Ей было интересно читать о себе, и Горький был как раз об этом. В целом, несмотря на недовольство, Гуров для себя решил, что автор все же хорош и стоит в дальнейшем обратить внимание на его произведения.
Ступив на перрон, Гуров тут же забыл о литературе. Первое, что поразило в Харькове, – душная жара, которой еще и близко не было в северной столице. Здесь лето уже наступило, причем наступило давно, высушив воздух, который казался привычному к санкт-петербургской влажности Гурову раскаленным и колючим. Колючести добавляла еще и пыль, сопутствующая стройке: харьковский вокзал еще строился. Здание было сплошь в строительных лесах, но его очертания уже вполне просматривались. И это было второе, что поразило Гурова в Харькове. Конечно, удивить жителя Санкт-Петербурга масштабностью сооружения непросто, но Харьков был в пять раз меньше и при этом строил вокзал, не уступавший столичному. "Богатый город", – сделал вывод Гуров, еще раз окинув взглядом уже видимую из-за лесов лепнину и огромный купол здания вокзала. Он влился в поток приезжих, который огибал стройку по наспех уложенным деревянным сходням, чтобы оказаться на привокзальной площади.
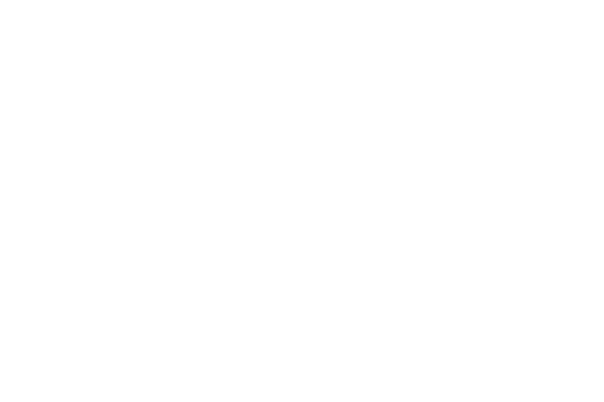
Харьковский вокзал
- Куды? - лениво спросил разомлевший от жары извозчик.
- Что? – сначала переспросил Гуров, а потом понял, что это южнорусский говор, к которому, видимо, надо начинать привыкать. – Вот что, братец, где тут у вас приличные гостиницы? И недорогие.
Извозчик посмотрел на Гурова и мысли его, разжиженные жарой, стали кристаллизоваться, отражая на лице этот сложный процесс. Он водил глазами по приезжему, силясь понять, к какому сословию тот принадлежит. Понять это было непросто. Добротная одежда, но без украшений. Добавить бы к ней золотую цепочку от часов - получился бы мелкий купец, серебряную – коммивояжер или банковский служащий. Ладони явно к физическому труду не привычные, как у чиновника, но статура крепкая, для сидячей работы не характерная. Багаж и вовсе сбивал с толку: дорогущий коричневый саквояж и видавший виды, потертый, кожаный чемодан.
Гуров, видя, что извозчик испытывает трудности, решил ему помочь. Он ограничил круг возможных вариантов поселения, добавив то, в чем отчаянно нуждался из-за долгого переезда и жары.
- С ванной, – сказал он.
Лицо извозчика разгладилось, и он тут же выдал вариант:
- "Националь" на Рыбной, поихалы.
Пролетка свернула с вокзальной площади направо, а потом налево, влившись в транспортный поток большой улицы, которая, как прочел Гуров на табличке, называлась Полтавский шлях. Улица упиралась в большой холм. Там стояло еще одно сооружение, удивившее Гурова, – огромная колокольня. Она была гигантской даже по питерским меркам, достигая сорока саженей в высоту.
По Полтавскому шляху ходила конка ("бисово плэмя" - отреагировал на нее извозчик необычно, но вполне понятно, ожидая, когда та отъедет от остановки), вдоль улицы было расположено множество лавок, цирюлен, питейных заведений. И все это, несмотря на похожий стиль вывесок и в общем-то невзрачную архитектуру, существенно отличалось от питерских улиц. Сначала Гуров не понял, в чем дело, а потом обратил внимание на людей. Во-первых, среди них не было той породы питерских чиновников, которая неизбежно придавала толпе вид целеустремленный, серый и хмурый. А во-вторых, люди здесь, казалось, никуда не спешили: большинство вообще сидело возле своих лавок и наслаждалось солнечным днем.
- Что? – сначала переспросил Гуров, а потом понял, что это южнорусский говор, к которому, видимо, надо начинать привыкать. – Вот что, братец, где тут у вас приличные гостиницы? И недорогие.
Извозчик посмотрел на Гурова и мысли его, разжиженные жарой, стали кристаллизоваться, отражая на лице этот сложный процесс. Он водил глазами по приезжему, силясь понять, к какому сословию тот принадлежит. Понять это было непросто. Добротная одежда, но без украшений. Добавить бы к ней золотую цепочку от часов - получился бы мелкий купец, серебряную – коммивояжер или банковский служащий. Ладони явно к физическому труду не привычные, как у чиновника, но статура крепкая, для сидячей работы не характерная. Багаж и вовсе сбивал с толку: дорогущий коричневый саквояж и видавший виды, потертый, кожаный чемодан.
Гуров, видя, что извозчик испытывает трудности, решил ему помочь. Он ограничил круг возможных вариантов поселения, добавив то, в чем отчаянно нуждался из-за долгого переезда и жары.
- С ванной, – сказал он.
Лицо извозчика разгладилось, и он тут же выдал вариант:
- "Националь" на Рыбной, поихалы.
Пролетка свернула с вокзальной площади направо, а потом налево, влившись в транспортный поток большой улицы, которая, как прочел Гуров на табличке, называлась Полтавский шлях. Улица упиралась в большой холм. Там стояло еще одно сооружение, удивившее Гурова, – огромная колокольня. Она была гигантской даже по питерским меркам, достигая сорока саженей в высоту.
По Полтавскому шляху ходила конка ("бисово плэмя" - отреагировал на нее извозчик необычно, но вполне понятно, ожидая, когда та отъедет от остановки), вдоль улицы было расположено множество лавок, цирюлен, питейных заведений. И все это, несмотря на похожий стиль вывесок и в общем-то невзрачную архитектуру, существенно отличалось от питерских улиц. Сначала Гуров не понял, в чем дело, а потом обратил внимание на людей. Во-первых, среди них не было той породы питерских чиновников, которая неизбежно придавала толпе вид целеустремленный, серый и хмурый. А во-вторых, люди здесь, казалось, никуда не спешили: большинство вообще сидело возле своих лавок и наслаждалось солнечным днем.
А еще на улице были гостиницы на любой вкус и кошелек. Их было так много, что Гуров начал подозревать извозчика в том, что тот везет его куда-то на окраину, с целью получить что-то от хозяина за выгодного постояльца. Да и название улицы – Рыбная – наводило на мысль о каких-то мрачных окраинах. Но пролетка, доехав почти до подножия холма с колокольней–гигантом, свернула направо, пересекла большую площадь, свернула еще раз направо и остановилась напротив вполне респектабельного трехэтажного здания гостиницы "Националь".
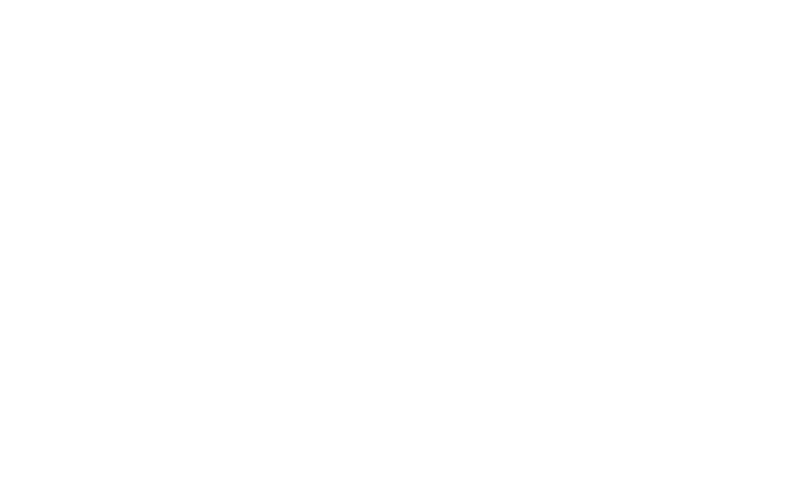
Павловская площадь
Рассчитываясь с извозчиком, Гуров спросил:
- Скажи-ка любезнейший, далеко ли отсюда усадьба Алчевских?
- От бисово плэмя! – уже не лениво, как по поводу конки, а зло заявил извозчик и сплюнул.
- Почему же? – растерялся Гуров от такой реакции на фамилию промышленника, мецената, столпа общества и вообще, как ни посмотри, – человека благородного и общественно полезного.
- Землю видибрав, паразит, до копанки повзты примусыв. Но я щуром не буду. Ось тэпэр людэй вожу…
- А усадьба-то где? - спросил Гуров, окончательно растерявшийся от потока слов, из которых едва понял половину.
- Нагори, – махнул извозчик кнутом куда-то в сторону колокольни и, как будто торжествуя, добавил вполне понятное: – Далэко.
"Ну, далэко так далэко", - спокойно подумал Гуров, глядя вслед улетающей пролетке и вполне справедливо рассудив, что "далэко" питерское и харьковское все же должны несколько отличаться. Про себя отметил, что нужно разобраться в причинах недовольства извозчика: один ли он такой недовольный деятельностью покойного или их много?
В общем и целом, внезапно озлобившемуся извозчику Гуров был благодарен. Гостиница оказалась вполне приличной, а номер - действительно с ванной, к тому же всего за восемь с полтиной в сутки. За такие деньги в столице можно было рассчитывать не на номер с ванной, а на конуру с тараканами. Алчевская оказалась права: жизнь в Харькове, кажется, была куда дешевле столичной.
Через два часа Гуров, уже смывший с себя путевую пыль и тщательно выбритый, сидел в кабинете генерал-губернатора. Он решил не откладывать свое представление в долгий ящик, сразу покончить с формальностями и, насколько это будет возможно, заручиться поддержкой местной власти.
- Скажи-ка любезнейший, далеко ли отсюда усадьба Алчевских?
- От бисово плэмя! – уже не лениво, как по поводу конки, а зло заявил извозчик и сплюнул.
- Почему же? – растерялся Гуров от такой реакции на фамилию промышленника, мецената, столпа общества и вообще, как ни посмотри, – человека благородного и общественно полезного.
- Землю видибрав, паразит, до копанки повзты примусыв. Но я щуром не буду. Ось тэпэр людэй вожу…
- А усадьба-то где? - спросил Гуров, окончательно растерявшийся от потока слов, из которых едва понял половину.
- Нагори, – махнул извозчик кнутом куда-то в сторону колокольни и, как будто торжествуя, добавил вполне понятное: – Далэко.
"Ну, далэко так далэко", - спокойно подумал Гуров, глядя вслед улетающей пролетке и вполне справедливо рассудив, что "далэко" питерское и харьковское все же должны несколько отличаться. Про себя отметил, что нужно разобраться в причинах недовольства извозчика: один ли он такой недовольный деятельностью покойного или их много?
В общем и целом, внезапно озлобившемуся извозчику Гуров был благодарен. Гостиница оказалась вполне приличной, а номер - действительно с ванной, к тому же всего за восемь с полтиной в сутки. За такие деньги в столице можно было рассчитывать не на номер с ванной, а на конуру с тараканами. Алчевская оказалась права: жизнь в Харькове, кажется, была куда дешевле столичной.
Через два часа Гуров, уже смывший с себя путевую пыль и тщательно выбритый, сидел в кабинете генерал-губернатора. Он решил не откладывать свое представление в долгий ящик, сразу покончить с формальностями и, насколько это будет возможно, заручиться поддержкой местной власти.
Харьковский губернатор Герман Августович Тобизен, отпрыск немецкого дворянского рода, чей дед когда-то давно присягнул на верность российскому императору, меньше всего походил на немца. Черные глаза и нос с горбинкой наводили на мысль скорее о кавказском происхождении. Впрочем, каких только смешений кровей не случалось на просторах Российской империи. А еще Герман Августович имел роскошные черные усы и начинающую седеть аккуратную бородку. Вспоминая петербуржского Клейгельса, Гуров уже начал подозревать, что особое, даже какое-то болезненное внимание к растительности на лице, является неотъемлемой частью российского губернаторского сословия. Впрочем, кроме этого, да еще происхождения, ничего общего у харьковского губернатора с петербуржским не было. Тобизен был явно не глуп.
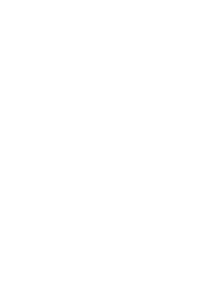
Герман Тобизен
- С чего это вдруг в столице так заинтересовались смертью Алексея Кирилловича, упокой, Господи, его душу? – спросил он, откладывая в сторону врученное Гуровым рекомендательное письмо.
"Упокой, Господи, его душу" вместо "Царствие ему небесное", - отметил про себя Гуров. И тут же обратил внимание на отсутствие традиционных икон в кабинете. "Лютеранин", - решил он, и это в данном случае говорило в пользу хозяина кабинета: чтобы достигнуть в России таких карьерных высот, не будучи православного вероисповедания, нужно было обладать выдающимися личными качествами. Эти размышления создали паузу, хотя ответ на заданный вопрос у Гурова был заготовлен. Губернатор решил, что Гуров замешкался, и поспешил объясниться:
- Поймите меня правильно, - он заглянул в рекомендательное письмо, чтобы вспомнить имя-отчество, - Федор Иванович. Я как первое должностное лицо губернии обязан знать о том, что происходит на вверенной мне государем императором территории. И когда столь неожиданно обрывается жизнь самого богатого человека губернии, я должен знать об обстоятельствах этого прискорбного события.
"Ни слова о столпе общества, великом промышленнике, столько сделавшем для губернии, и так далее", - отметил Гуров. Похоже, губернатору были чужды пустые фразы, и порасспросить его стоило.
Но для начала Гуров выдал заранее заготовленное:
- Обстоятельства смерти господина Алчевского не совсем ясны, и моя задача - прояснить их. Это никоим образом не отвергает версию самоубийства, и мне не хотелось бы, чтобы мое появление свидетельствовало о чем-то ином. Мне нужно лишь прояснить обстоятельства, предшествовавшие столь трагическому шагу…
- Ну, обстоятельства понятны, – прервал Тобизен округлые объяснения Гурова, которые уже и самому Гурову начали казаться не совсем уместными. – Покойный рассчитывал на правительственный заказ на рельсы для Донецко-Юрьевского общества и хотел разрешения на выпуск облигаций на 8 миллионов. Но Витте ему отказал. Что меня, к слову сказать, не удивило: определенные резоны в этих просьбах были, но никогда еще государство российское частному капиталу такой помощи не оказывало, и с чего бы начинать именно с Алчевского? Больших масштабов мысли был Алексей Кириллович, но тут, как мне кажется, свое значение для империи сильно преувеличил. А что для человека крупного может быть прискорбнее, чем осознание своей ничтожности? Вот вам и причина.
- А ведь Алчевского не все любили? – бросил пробный камень Гуров. Тобизен призадумался и начал:
- Алексей Кириллович был человеком, безусловно, блестящего ума, и я бы даже сказал – талантливым. Но талант его был особый, лично мне - неблизкий, поэтому, кстати, мы не были дружны, хотя по положению - вполне могли бы. Умел он делать деньги. И не просто делая лучше то, что делали другие. Талант его заключался в том, что он видел возможности там, где другие не видели. Так, например, появился Харьковский торговый банк для кредитования купеческого сословия, а потом – Земельный, для выдачи денег под залог земли… Потом – металлургия появилась. Хорошее дело, для будущего нужное. Все же в двадцатый век шагнули. Но шел Алчевский этим путем слишком… прямолинейно, я бы даже сказал - нагло. Например, земельные участки, которые были богаты углем, в основном не скуплены им были, а получены в качестве залога. В нашей губернии каждая пятая десятина не крестьянам принадлежит, а землевладельцам-дворянам да помещикам, которые привыкли не хозяйством заниматься, а жизнь в кабаках да борделях прожигать. Южнее, где земли богаты углем, ситуация примерно такая же, – Тобизен презрительно поморщился. - Вот эта публика и потянулась за кредитами в Земельный банк. Пропитое, конечно, не возвращается, поэтому эта земля (оцененная, кстати, в качестве залога гораздо ниже реальной цены) оказывалась в собственности банка, то бишь - господина Алчевского.
- Есть еще просто крестьяне, – продолжил губернатор. - Манифест 61 года подарил им свободу, но землей не наделил. Не появилось у нас крестьянина-землевладельца. Зато появилась община как субъект землевладения. Штука для толстовцев всяких – почти что святая, однако на деле подверженная всем порокам, присущим всякому российскому собранию – мздоимству, страху перед вышестоящим начальством, податливостью грубой силе. Там, где частник бы устоял или нашел возможности сплотиться против общего врага, наш крестьянин спасовал. Покойный эту возможность быстро разглядел и использовал.
- А как же выделение земли взамен выкупленной? Как же обучение горному ремеслу безземельных крестьян? – спросил Гуров, ознакомившийся накануне поездки с деятельностью Алчевского по развернутым панегирикам в столичной прессе.
- Да полноте, Федор Иванович. Вы себе представляете, что означает для крестьянина надел сменить? И так урожайность у нашего крестьянства невысокая. А тут – новые земли, непонятно кем и как до того обработанные, да еще и не факт, что пригодные. К тому же расстояния – у нас треть хозяйств безлошадных, и путь даже в несколько верст - для крестьянина уже большое препятствие. А что до горного дела… Вы в шахте когда-нибудь бывали?
- Нет.
- А я бывал. Так я вам доложу, место пренеприятное. Для человека с земли, привыкшего видеть только небо над головой, - и вовсе пугающее. Я уж не говорю о количестве смертей под обвалами. К тому же закупочные цены на уголь устанавливало горнопромышленное общество, т.е. сам господин Алчевский. И поверьте, разгуляться он не давал.
- Ну что же, прогресс не может быть без жертв, – сказал Гуров банальность, подзадоривая уже загоревшегося губернатора к дальнейшим излияниям, которые оказались очень полезны.
- Прогресс говорите, прогресс! – вскочил Тобизен. – Я вам расскажу о его жертвах. Тысячи людей, крестьян, обслуги разоренных поместий, мелких дворянчиков и помещиков… Я от идей гуманизма далек, поверьте. Жалости к большинству из них я не испытываю. Но вся эта публика, оставшаяся не у дел, несет угрозу империи. Вот что будет жертвой. Уже сейчас по дорогам губернии ездить опасно, и Бог знает, почему сам Харьков еще не захлестнула волна беззакония. И главное: люди эти, лишенные сословных рамок, – прекрасная почва для крамольных идей, которые именно на этой почве и произрастают. Кто делом занят, тому о революциях думать недосуг... Но господа, подобные Алчевскому, об этом не думают…
Тут пылкая речь губернатора оказалась неожиданно прервана.
"Упокой, Господи, его душу" вместо "Царствие ему небесное", - отметил про себя Гуров. И тут же обратил внимание на отсутствие традиционных икон в кабинете. "Лютеранин", - решил он, и это в данном случае говорило в пользу хозяина кабинета: чтобы достигнуть в России таких карьерных высот, не будучи православного вероисповедания, нужно было обладать выдающимися личными качествами. Эти размышления создали паузу, хотя ответ на заданный вопрос у Гурова был заготовлен. Губернатор решил, что Гуров замешкался, и поспешил объясниться:
- Поймите меня правильно, - он заглянул в рекомендательное письмо, чтобы вспомнить имя-отчество, - Федор Иванович. Я как первое должностное лицо губернии обязан знать о том, что происходит на вверенной мне государем императором территории. И когда столь неожиданно обрывается жизнь самого богатого человека губернии, я должен знать об обстоятельствах этого прискорбного события.
"Ни слова о столпе общества, великом промышленнике, столько сделавшем для губернии, и так далее", - отметил Гуров. Похоже, губернатору были чужды пустые фразы, и порасспросить его стоило.
Но для начала Гуров выдал заранее заготовленное:
- Обстоятельства смерти господина Алчевского не совсем ясны, и моя задача - прояснить их. Это никоим образом не отвергает версию самоубийства, и мне не хотелось бы, чтобы мое появление свидетельствовало о чем-то ином. Мне нужно лишь прояснить обстоятельства, предшествовавшие столь трагическому шагу…
- Ну, обстоятельства понятны, – прервал Тобизен округлые объяснения Гурова, которые уже и самому Гурову начали казаться не совсем уместными. – Покойный рассчитывал на правительственный заказ на рельсы для Донецко-Юрьевского общества и хотел разрешения на выпуск облигаций на 8 миллионов. Но Витте ему отказал. Что меня, к слову сказать, не удивило: определенные резоны в этих просьбах были, но никогда еще государство российское частному капиталу такой помощи не оказывало, и с чего бы начинать именно с Алчевского? Больших масштабов мысли был Алексей Кириллович, но тут, как мне кажется, свое значение для империи сильно преувеличил. А что для человека крупного может быть прискорбнее, чем осознание своей ничтожности? Вот вам и причина.
- А ведь Алчевского не все любили? – бросил пробный камень Гуров. Тобизен призадумался и начал:
- Алексей Кириллович был человеком, безусловно, блестящего ума, и я бы даже сказал – талантливым. Но талант его был особый, лично мне - неблизкий, поэтому, кстати, мы не были дружны, хотя по положению - вполне могли бы. Умел он делать деньги. И не просто делая лучше то, что делали другие. Талант его заключался в том, что он видел возможности там, где другие не видели. Так, например, появился Харьковский торговый банк для кредитования купеческого сословия, а потом – Земельный, для выдачи денег под залог земли… Потом – металлургия появилась. Хорошее дело, для будущего нужное. Все же в двадцатый век шагнули. Но шел Алчевский этим путем слишком… прямолинейно, я бы даже сказал - нагло. Например, земельные участки, которые были богаты углем, в основном не скуплены им были, а получены в качестве залога. В нашей губернии каждая пятая десятина не крестьянам принадлежит, а землевладельцам-дворянам да помещикам, которые привыкли не хозяйством заниматься, а жизнь в кабаках да борделях прожигать. Южнее, где земли богаты углем, ситуация примерно такая же, – Тобизен презрительно поморщился. - Вот эта публика и потянулась за кредитами в Земельный банк. Пропитое, конечно, не возвращается, поэтому эта земля (оцененная, кстати, в качестве залога гораздо ниже реальной цены) оказывалась в собственности банка, то бишь - господина Алчевского.
- Есть еще просто крестьяне, – продолжил губернатор. - Манифест 61 года подарил им свободу, но землей не наделил. Не появилось у нас крестьянина-землевладельца. Зато появилась община как субъект землевладения. Штука для толстовцев всяких – почти что святая, однако на деле подверженная всем порокам, присущим всякому российскому собранию – мздоимству, страху перед вышестоящим начальством, податливостью грубой силе. Там, где частник бы устоял или нашел возможности сплотиться против общего врага, наш крестьянин спасовал. Покойный эту возможность быстро разглядел и использовал.
- А как же выделение земли взамен выкупленной? Как же обучение горному ремеслу безземельных крестьян? – спросил Гуров, ознакомившийся накануне поездки с деятельностью Алчевского по развернутым панегирикам в столичной прессе.
- Да полноте, Федор Иванович. Вы себе представляете, что означает для крестьянина надел сменить? И так урожайность у нашего крестьянства невысокая. А тут – новые земли, непонятно кем и как до того обработанные, да еще и не факт, что пригодные. К тому же расстояния – у нас треть хозяйств безлошадных, и путь даже в несколько верст - для крестьянина уже большое препятствие. А что до горного дела… Вы в шахте когда-нибудь бывали?
- Нет.
- А я бывал. Так я вам доложу, место пренеприятное. Для человека с земли, привыкшего видеть только небо над головой, - и вовсе пугающее. Я уж не говорю о количестве смертей под обвалами. К тому же закупочные цены на уголь устанавливало горнопромышленное общество, т.е. сам господин Алчевский. И поверьте, разгуляться он не давал.
- Ну что же, прогресс не может быть без жертв, – сказал Гуров банальность, подзадоривая уже загоревшегося губернатора к дальнейшим излияниям, которые оказались очень полезны.
- Прогресс говорите, прогресс! – вскочил Тобизен. – Я вам расскажу о его жертвах. Тысячи людей, крестьян, обслуги разоренных поместий, мелких дворянчиков и помещиков… Я от идей гуманизма далек, поверьте. Жалости к большинству из них я не испытываю. Но вся эта публика, оставшаяся не у дел, несет угрозу империи. Вот что будет жертвой. Уже сейчас по дорогам губернии ездить опасно, и Бог знает, почему сам Харьков еще не захлестнула волна беззакония. И главное: люди эти, лишенные сословных рамок, – прекрасная почва для крамольных идей, которые именно на этой почве и произрастают. Кто делом занят, тому о революциях думать недосуг... Но господа, подобные Алчевскому, об этом не думают…
Тут пылкая речь губернатора оказалась неожиданно прервана.
Дверь открылась, и в кабинет легким шагом вошел, почти вбежал элегантный господин. Китель его был странного кроя, и даже весьма искушенный в чиновничьем облачении Гуров затруднился сказать, к какому ведомству принадлежит вошедший. Впрочем, очень дорогое сукно говорило о том, что костюм этот шился на заказ и должен был свидетельствовать об общей принадлежности к слугам государевым, причем к слугам очень высокого ранга, которым уже не важны знаки различия. На носу у вошедшего были очки в золотой оправе, на пальце – массивный и очень дорогой перстень. Был посетитель этот лет тридцати пяти, но уже начинал лысеть, лицо его было с мелкими чертами и чрезвычайно живое.
- Добрый вечер, Герман Августович! – обратился он к губернатору и, не давая тому ответить, тут же выпалил: - Услышал случайно часть разговора. Опять на любимого конька сели? Негоже столпа общества клеймить, тем более, среди петербуржских чиновников полицейского ведомства.
Губернатор разулыблася, пожал вошедшему руку и ответил:
- Шутить изволите, Михаил Павлович.
Такая реакция на очевидную дерзость свидетельствовала о том, что губернатора и вошедшего господина связывали дружеские отношения, а то, что посетитель сразу понял, кто такой Гуров, - о его большой информированности.
- Секрета тут никакого нет, – как бы отвечая на мысли Гурова, заявил вошедший, садясь в кресло. - Мне в приемной сообщили, что вы - полицейский надзиратель сыскной части Федор Иванович Гуров. Правильно? Позвольте и мне отрекомендоваться – Михаил Павлович Реуцкий, тайный советник, чиновник по особым поручениям при министре финансов Сергее Юльевиче Витте. Прибыл из столицы месяц назад с целью ознакомиться с делами покойного в связи с его просьбой о государевой поддержке. Теперь, раз уж так сталось, провожу небольшую ревизию скромных накоплений покойного. Увы, почти что в частном порядке. Министерские, наделенные официальными полномочиями, должны приехать со дня на день.
Реуцкий понравился Гурову, еще и тем, что буквально сразу возникшую у него мысль высказал.
- А ведь мы с вами почти что одним делом занимаемся, только я - по финансовой части. У вас же в полиции пока что нет специалистов подобного профиля? Так что я смогу быть вам полезен. Да и для меня знакомство с человеком, чье дело - выявлять грубое беззаконие, будет не лишним. Так что давайте-ка работать вместе. Одна голова хорошо, а две лучше. Тем более, вас характеризовали как человека очень толкового.
"В приемной, что ли, характеризовали?" - подумал Гуров без всякого удивления. В том, что чиновник такого ранга был заранее осведомлен о его визите и успел навести справки, не было ничего необычного.
- Отчего же не поработать, – сказал Гуров.
- Вот и славно, – ответил Реуцкий. - Давайте завтра в десять увидимся в Земельном банке. Где он – вам каждый скажет. Там очень интересные дела творятся. Я вам - таких персонажей покажу, что ваши петербуржские бандиты покажутся детьми невинными.
Гуров распрощался, выслушал дежурные заверения губернатора во всяческой поддержке, в том числе по полицейской части, и, уходя, успел заметить, как губернатор наклонился и полез в стол за рюмками. Два друга отмечали окончание дня. Гуров же пока друзьями не обзавелся, да и отмечать ему было пока нечего.
Впрочем, некоторые итоги уже можно было подвести. Гуров уже понял в общих чертах причину озлобленности извозчика. Теперь он мрачно размышлял над тем, что если смерть харьковского промышленника не была случайной, то количество подозреваемых, до того измерявшееся единицами, теперь может измеряться тысячами. Кроме того, отчасти становилась понятна причина озабоченности Филиппова ростом в Санкт-Петербурге количества преступников из Харькова и находящихся южнее губерний. Обезземеливание крестьян и массовые банкротства мелких землевладельцев толкали сотни людей на путь попрания законности. И покойный Алексей Павлович Алчевский был тому очень существенной причиной. Но почему эта людская волна при этом огибала сам губернский город, еще предстояло разобраться.
Возник у Гурова по итогу дня еще один вопрос. Выйдя из здания губернаторской канцелярии, которая располагалась рядом с резиденцией губернского начальника на улице с объяснимым названием Губернаторская, он решил пройтись пешком. Гуров запомнил путь, которым его вез извозчик, и мысленно проложил маршрут: вверх до улицы Пушкинской, потом – дальше до Сумской, по Сумской - налево и все время вниз, до конца, после чего – направо до площади, которая называлась Павловской и была рядом с его гостиницей. Вечер был прекрасным, и прогулка обещала выдаться приятной. Если бы не вопрос.
Вопрос появился, когда коляска, стоявшая на противоположной стороне улицы, отъехала (как потом понял Гуров, она была отпущена за ненадобностью, потому что он, Гуров, пошел пешком). Взору открылся огромный детина, который пялился на Гурова, но тут же отвел взгляд, когда Гуров в упор на него посмотрел. Гуров зашагал вверх по Губернаторской, и детина, слегка косолапя, пошел за ним. Окончательно в том, что филер следит именно за ним, Гуров убедился где-то в районе Пушкинской. Улицы, по которым шел надзиратель, были оживленными, к тому же было еще довольно светло, и Гуров был скорее озадачен, чем напряжен. А озадачиться было от чего.
Три года назад ловили они в Санкт-Петербурге ловкого шулера, ученика знаменитого на всю Россию карточного фокусника Дмитриева из Нижнего Новгорода, которым восхищался сам Гудини. Ученик превзошел своего учителя, по крайней мере, в части жадности, и даже ходили слухи - обчистил кого-то из представителей императорской фамилии. Этим, кажется, и объяснялся размах мероприятий по его задержанию. Тогда-то Гуров и познакомился с филерами из охранного отделения. Своей филерской службы в полиции не было, и за помощью обратились в "охранку" в силу деликатности и государственной важности предприятия.
Тогда филеры и посвятили Гурова в некоторые особенности своего мастерства или даже, как решил тогда Гуров, – искусства. А искусство это предполагало по возможности незаметность, четкий расчет маршрута объекта, сменяемость филеров и многое другое. А еще филеры были людьми как будто стертыми: взгляд на таком субъекте никогда не остановится. Быть заметным легко: напяль на себя розовый бант или фиолетовые штиблеты – и все внимание к тебе приковано. А вот слиться с улицей, стать неразличимым в толпе – это действительно искусство.
Шулера, благодаря филерам, они тогда вычислили. Правда, через два дня его нашли зарезанным в Крестах, к заметному облегчению начальства и, видимо, тех, кто затеял это расследование. Было ли это убийство случайным или кто-то прятал в воду концы деликатного свойства, Гурову было не ведомо. И вообще – подобных вопросов он приучился даже самому себе не задавать, выработав за время государственной службы известную дисциплину мышления. А вот опыт общения с филерами ему потом неоднократно пригодился.
И вот сейчас опыт подсказывал, что филер этот - не то что не специалист в своем деле, а вообще – смешная карикатура на филера. Кроме внешности, мягко говоря, выдающейся, имел он еще одну особенность: одежда, вроде бы самая обычная, висела на нем как-то нелепо, и сам "филер" то и дело ее поправлял или одергивал, как будто не привык к такому облачению. Для военного он был слишком молод, и это еще больше заинтересовало Гурова, который решил сразу разобраться, кто таков этот детина.
- Добрый вечер, Герман Августович! – обратился он к губернатору и, не давая тому ответить, тут же выпалил: - Услышал случайно часть разговора. Опять на любимого конька сели? Негоже столпа общества клеймить, тем более, среди петербуржских чиновников полицейского ведомства.
Губернатор разулыблася, пожал вошедшему руку и ответил:
- Шутить изволите, Михаил Павлович.
Такая реакция на очевидную дерзость свидетельствовала о том, что губернатора и вошедшего господина связывали дружеские отношения, а то, что посетитель сразу понял, кто такой Гуров, - о его большой информированности.
- Секрета тут никакого нет, – как бы отвечая на мысли Гурова, заявил вошедший, садясь в кресло. - Мне в приемной сообщили, что вы - полицейский надзиратель сыскной части Федор Иванович Гуров. Правильно? Позвольте и мне отрекомендоваться – Михаил Павлович Реуцкий, тайный советник, чиновник по особым поручениям при министре финансов Сергее Юльевиче Витте. Прибыл из столицы месяц назад с целью ознакомиться с делами покойного в связи с его просьбой о государевой поддержке. Теперь, раз уж так сталось, провожу небольшую ревизию скромных накоплений покойного. Увы, почти что в частном порядке. Министерские, наделенные официальными полномочиями, должны приехать со дня на день.
Реуцкий понравился Гурову, еще и тем, что буквально сразу возникшую у него мысль высказал.
- А ведь мы с вами почти что одним делом занимаемся, только я - по финансовой части. У вас же в полиции пока что нет специалистов подобного профиля? Так что я смогу быть вам полезен. Да и для меня знакомство с человеком, чье дело - выявлять грубое беззаконие, будет не лишним. Так что давайте-ка работать вместе. Одна голова хорошо, а две лучше. Тем более, вас характеризовали как человека очень толкового.
"В приемной, что ли, характеризовали?" - подумал Гуров без всякого удивления. В том, что чиновник такого ранга был заранее осведомлен о его визите и успел навести справки, не было ничего необычного.
- Отчего же не поработать, – сказал Гуров.
- Вот и славно, – ответил Реуцкий. - Давайте завтра в десять увидимся в Земельном банке. Где он – вам каждый скажет. Там очень интересные дела творятся. Я вам - таких персонажей покажу, что ваши петербуржские бандиты покажутся детьми невинными.
Гуров распрощался, выслушал дежурные заверения губернатора во всяческой поддержке, в том числе по полицейской части, и, уходя, успел заметить, как губернатор наклонился и полез в стол за рюмками. Два друга отмечали окончание дня. Гуров же пока друзьями не обзавелся, да и отмечать ему было пока нечего.
Впрочем, некоторые итоги уже можно было подвести. Гуров уже понял в общих чертах причину озлобленности извозчика. Теперь он мрачно размышлял над тем, что если смерть харьковского промышленника не была случайной, то количество подозреваемых, до того измерявшееся единицами, теперь может измеряться тысячами. Кроме того, отчасти становилась понятна причина озабоченности Филиппова ростом в Санкт-Петербурге количества преступников из Харькова и находящихся южнее губерний. Обезземеливание крестьян и массовые банкротства мелких землевладельцев толкали сотни людей на путь попрания законности. И покойный Алексей Павлович Алчевский был тому очень существенной причиной. Но почему эта людская волна при этом огибала сам губернский город, еще предстояло разобраться.
Возник у Гурова по итогу дня еще один вопрос. Выйдя из здания губернаторской канцелярии, которая располагалась рядом с резиденцией губернского начальника на улице с объяснимым названием Губернаторская, он решил пройтись пешком. Гуров запомнил путь, которым его вез извозчик, и мысленно проложил маршрут: вверх до улицы Пушкинской, потом – дальше до Сумской, по Сумской - налево и все время вниз, до конца, после чего – направо до площади, которая называлась Павловской и была рядом с его гостиницей. Вечер был прекрасным, и прогулка обещала выдаться приятной. Если бы не вопрос.
Вопрос появился, когда коляска, стоявшая на противоположной стороне улицы, отъехала (как потом понял Гуров, она была отпущена за ненадобностью, потому что он, Гуров, пошел пешком). Взору открылся огромный детина, который пялился на Гурова, но тут же отвел взгляд, когда Гуров в упор на него посмотрел. Гуров зашагал вверх по Губернаторской, и детина, слегка косолапя, пошел за ним. Окончательно в том, что филер следит именно за ним, Гуров убедился где-то в районе Пушкинской. Улицы, по которым шел надзиратель, были оживленными, к тому же было еще довольно светло, и Гуров был скорее озадачен, чем напряжен. А озадачиться было от чего.
Три года назад ловили они в Санкт-Петербурге ловкого шулера, ученика знаменитого на всю Россию карточного фокусника Дмитриева из Нижнего Новгорода, которым восхищался сам Гудини. Ученик превзошел своего учителя, по крайней мере, в части жадности, и даже ходили слухи - обчистил кого-то из представителей императорской фамилии. Этим, кажется, и объяснялся размах мероприятий по его задержанию. Тогда-то Гуров и познакомился с филерами из охранного отделения. Своей филерской службы в полиции не было, и за помощью обратились в "охранку" в силу деликатности и государственной важности предприятия.
Тогда филеры и посвятили Гурова в некоторые особенности своего мастерства или даже, как решил тогда Гуров, – искусства. А искусство это предполагало по возможности незаметность, четкий расчет маршрута объекта, сменяемость филеров и многое другое. А еще филеры были людьми как будто стертыми: взгляд на таком субъекте никогда не остановится. Быть заметным легко: напяль на себя розовый бант или фиолетовые штиблеты – и все внимание к тебе приковано. А вот слиться с улицей, стать неразличимым в толпе – это действительно искусство.
Шулера, благодаря филерам, они тогда вычислили. Правда, через два дня его нашли зарезанным в Крестах, к заметному облегчению начальства и, видимо, тех, кто затеял это расследование. Было ли это убийство случайным или кто-то прятал в воду концы деликатного свойства, Гурову было не ведомо. И вообще – подобных вопросов он приучился даже самому себе не задавать, выработав за время государственной службы известную дисциплину мышления. А вот опыт общения с филерами ему потом неоднократно пригодился.
И вот сейчас опыт подсказывал, что филер этот - не то что не специалист в своем деле, а вообще – смешная карикатура на филера. Кроме внешности, мягко говоря, выдающейся, имел он еще одну особенность: одежда, вроде бы самая обычная, висела на нем как-то нелепо, и сам "филер" то и дело ее поправлял или одергивал, как будто не привык к такому облачению. Для военного он был слишком молод, и это еще больше заинтересовало Гурова, который решил сразу разобраться, кто таков этот детина.
Свернув с Сумской направо, он направился к огромной колокольне, поразившей его с утра. Гуров остановился и прочел на табличке, привинченной к церковной ограде, что это Успенский собор, а поразительная колокольня возведена в честь Александра I и победы российской армии в Отечественной войне 1812 года. Потом Гуров повернулся так, чтобы скользнуть взглядом вокруг, и убедился, что "филер" на месте. После этого он быстро пошел вниз по широкому мощеному спуску, ведущему к мосту через реку, и к другому огромному собору, который не имел столь высокой колокольни, но смотрелся куда внушительнее. Справа оставался небольшой, но красивый сквер, находящийся на крутом склоне, а потому состоящий почти сплошь из плавно спускающихся ступеней. Еще правее находилось еще одно сооружение, вернее - группа сооружений, украшенных куполами. Их Гуров успел рассмотреть в уже сгущающейся темноте. Он спустился вниз, до большой улицы, которая, как он потом узнал, называлась Клочковская, и повернул направо. Быстро миновав сквер, он зашагал вдоль высокого забора, который ограждал, по всей видимости, не просто церковь, а монастырь. Дойдя до первого поворота направо, он остановился и стал ждать. Через минуту показался детина. Столкнувшись нос к носу с Гуровым, он остолбенел.
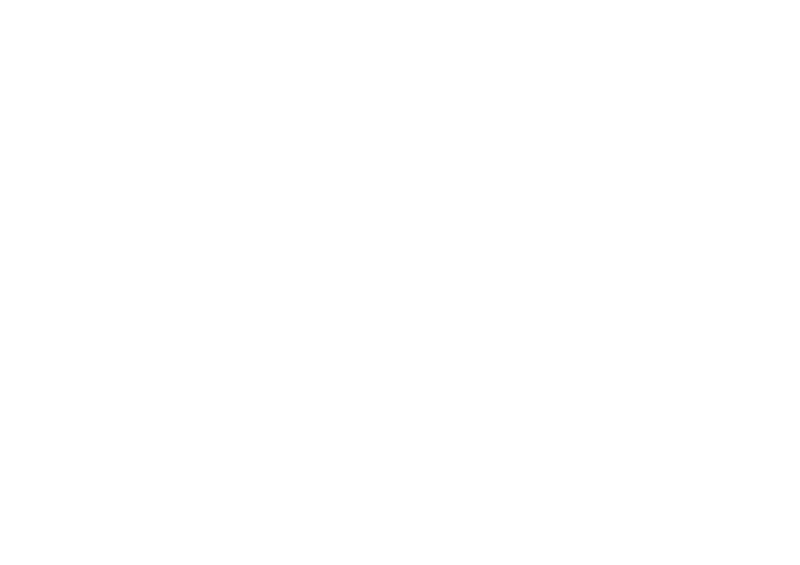
Купеческий спуск
- Ну, кто таков? – как можно миролюбивее осведомился Гуров.
При этом он приготовился поднырнуть под возможный удар правой, которого следовало бы миновать, потому что, учитывая конституцию "филера", дело могло закончиться плохо.
Но детина повел себя непредсказуемо. Он быстро перекрестился, выпалил неожиданно высоким голосом "Прэсвята Богородиця! " и припустил назад. Гурову закричал вслед: "Стой, дурак!" - и не спеша, потому что довольно долгая прогулка его утомила, затрусил следом. Но детина пропал. Слева был только забор, а справа - широкая мостовая. Даже в темноте Гуров увидел бы перебегающего ее "филера".
Объяснение нашлось довольно быстро: Гуров заметил в каменной стене небольшую дверцу, запертую на ключ. Замок был простецкий, но смысла пробираться на монастырскую территорию не было.
По крайней мере, ответ на один вопрос был получен: вот чем объяснялось неловкое обращение детины с цивильной одеждой. Но ситуацию это нисколько не проясняло, делая ее еще более нелепой. "Монах-филер? Или филер-послушник? Чушь какая-то", - подумал Гуров и зашагал в гостиницу.
При этом он приготовился поднырнуть под возможный удар правой, которого следовало бы миновать, потому что, учитывая конституцию "филера", дело могло закончиться плохо.
Но детина повел себя непредсказуемо. Он быстро перекрестился, выпалил неожиданно высоким голосом "Прэсвята Богородиця! " и припустил назад. Гурову закричал вслед: "Стой, дурак!" - и не спеша, потому что довольно долгая прогулка его утомила, затрусил следом. Но детина пропал. Слева был только забор, а справа - широкая мостовая. Даже в темноте Гуров увидел бы перебегающего ее "филера".
Объяснение нашлось довольно быстро: Гуров заметил в каменной стене небольшую дверцу, запертую на ключ. Замок был простецкий, но смысла пробираться на монастырскую территорию не было.
По крайней мере, ответ на один вопрос был получен: вот чем объяснялось неловкое обращение детины с цивильной одеждой. Но ситуацию это нисколько не проясняло, делая ее еще более нелепой. "Монах-филер? Или филер-послушник? Чушь какая-то", - подумал Гуров и зашагал в гостиницу.
На следующее утро Гуров первым делом подозвал коридорного и попросил отправить телеграмму в Санкт-Петербург. Телеграмма предназначалась Филиппову, и в ней Гуров сообщил лишь о том, где остановился. Больше сообщать было, в сущности, нечего. Хотя, конечно, вчерашние небольшие приключения и весьма любопытные разговоры было бы крайне полезно обсудить с проницательным начальником, но не телеграфом же для этого пользоваться. Гуров вспомнил, что первая телефонная линия между Санкт-Петербургом и Москвой появилась всего три года назад, и вряд ли за это время стоило ожидать телефонной связи в губернских городах. Да и обсуждать случившееся за вчера, используя столь выдающееся достижение прогресса, было бы странным. А вот сегодня у него наверняка появятся сведения куда более интересные: за минуту до того, как Гуров вышел на улицу, посыльный вручил ему приглашение посетить вечером дом семьи Алчевских. Пока же ему предстоял еще один визит.
Выйдя на Университетскую, Гуров решил было свернуть на Павловскую площадь, где толклись извозчики, а потом увидел пролетку, стоявшую саженях в пяти от входа в гостиницу. Подойдя к ней, он осведомился у стоявшего рядом вчерашнего детины:
- Вы ведь не будете возражать, молодой человек?
Молодой человек, который явно держал извозчика для себя на случай необходимости следовать за Гуровым, вид имел настолько растерянный и поникший, что Федору Ивановичу стало его жаль, и он сказал извозчику громко, так, чтобы незадачливый филер, услышал: «К Земельному банку».
Выйдя на Университетскую, Гуров решил было свернуть на Павловскую площадь, где толклись извозчики, а потом увидел пролетку, стоявшую саженях в пяти от входа в гостиницу. Подойдя к ней, он осведомился у стоявшего рядом вчерашнего детины:
- Вы ведь не будете возражать, молодой человек?
Молодой человек, который явно держал извозчика для себя на случай необходимости следовать за Гуровым, вид имел настолько растерянный и поникший, что Федору Ивановичу стало его жаль, и он сказал извозчику громко, так, чтобы незадачливый филер, услышал: «К Земельному банку».
Здания Земельного и Торгового банков, которые располагались рядом, поразили Гурова своей красотой. Они были одной высоты, но Земельный банк, как будто согласуясь с названием, выглядел более приземистым. Торговый же банк за счет лепнины наверху казался стройнее. К тому же Торговый банк венчал небольшой купол, являющийся как бы продолжением неширокого эркера, который делал здание еще стройнее.
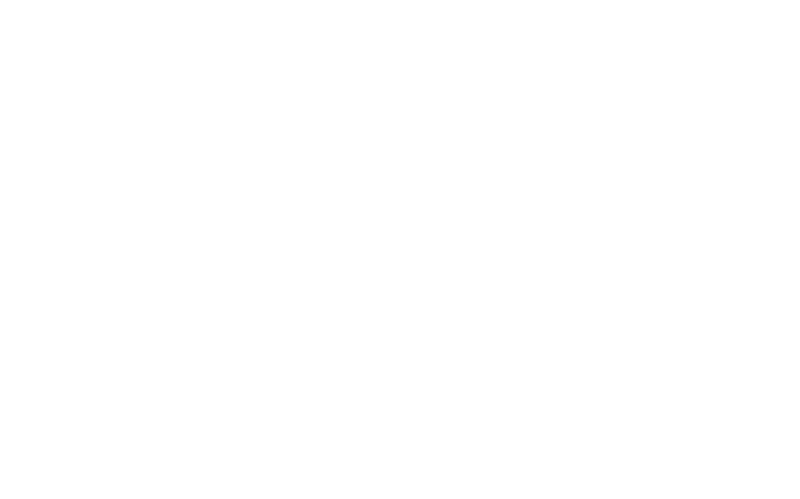
Земельный банк
Эти два сооружения, демонстрирующие надежность и возвышенность одновременно, должны были символизировать мощь империи Алчевского, но то, что под ними происходило, говорило об обратном. Разношерстная толпа, человек триста, собралась возле зданий и возмущенно гудела.
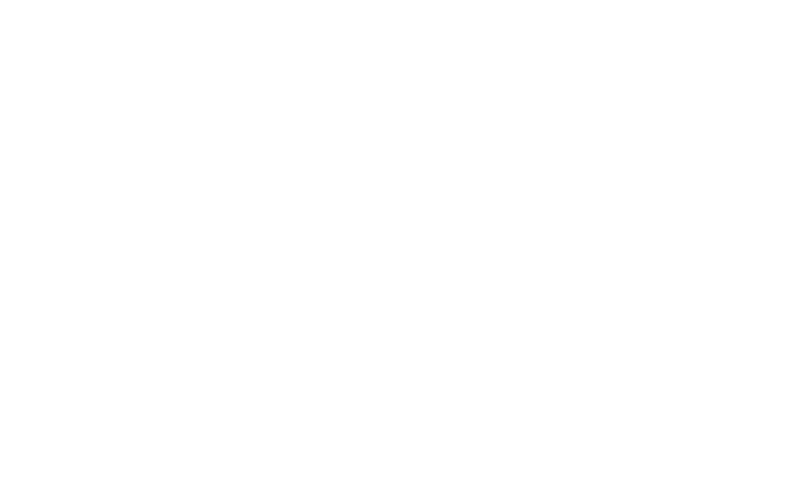
Торговый банк
- Вкладныкы… Другый тыждень вже тут колобродять. – ответил стоявший поодаль городовой на вопрос Гурова. Федор Иванович стал мысленно прикидывать, как ему попасть в здание Земельного банка: двери явно были закрыты изнутри, и пытаться проникнуть через них вовнутрь не представлялось возможным.
- Доброе утро, Федор Иванович! – Гуров обернулся и увидел спешащего к нему Реуцкого.
Тот пожал руку и весело заметил:
- Обманутые покойным вкладчики желают получить кровно заработанное. Но, похоже, зряшная затея, потому что нельзя получить то, чего уже нет.
Он рассмеялся и скомандовал:
– Пойдемте!
Они обошли банк слева. Реуцкий каким-то особым стуком постучал в малоприметную дверь, и они попали в здание. Небольшой коридор вел от черного хода прямо в главный зал банка, который поразил Гурова своим великолепием. Зал был окружен светлыми мраморными колоннами, декор блистал золотом, контрастирующим с черной ковкой. При этом интерьер совершенно не выглядел пошло, как решил бы Гуров, если бы не видел все это сам, а судил по чьему-то описанию.
- Однако, покойный имел вкус, – сказал он, оглядываясь.
- А-а-а.. – отмахнулся Реуцкий, направляясь к мраморной лестнице. – Вкус имеет зять покойного. А покойный имел вкус к деньгам. Нам наверх. Там нас ждут жрецы этого храма наживы.
- Доброе утро, Федор Иванович! – Гуров обернулся и увидел спешащего к нему Реуцкого.
Тот пожал руку и весело заметил:
- Обманутые покойным вкладчики желают получить кровно заработанное. Но, похоже, зряшная затея, потому что нельзя получить то, чего уже нет.
Он рассмеялся и скомандовал:
– Пойдемте!
Они обошли банк слева. Реуцкий каким-то особым стуком постучал в малоприметную дверь, и они попали в здание. Небольшой коридор вел от черного хода прямо в главный зал банка, который поразил Гурова своим великолепием. Зал был окружен светлыми мраморными колоннами, декор блистал золотом, контрастирующим с черной ковкой. При этом интерьер совершенно не выглядел пошло, как решил бы Гуров, если бы не видел все это сам, а судил по чьему-то описанию.
- Однако, покойный имел вкус, – сказал он, оглядываясь.
- А-а-а.. – отмахнулся Реуцкий, направляясь к мраморной лестнице. – Вкус имеет зять покойного. А покойный имел вкус к деньгам. Нам наверх. Там нас ждут жрецы этого храма наживы.
В роскошно обставленном кабинете за огромным полированным столом сидели трое мужчин. Всем троим было под 60 лет, все были бородаты, с огромными животами, дорого одеты и поначалу даже показались Гурову близнецами. Сидевший в центре курил сигару, тот, что справа, изучал какие-то бумаги, слева – просто рассматривал вошедших. Никто из них не встал, чтобы приветствовать визитеров, никто не поздоровался. Гуров ощутил тяжелую атмосферу и свою неуместность в этом кабинете. Реуцкий же, ничуть не смущаясь, представил присутствующим Гурова, а потом стал представлять сидящих - так, как будто это были не люди, а портреты, висящие на стенах, нимало не заботясь об их реакции, которой, впрочем, особо и не было.
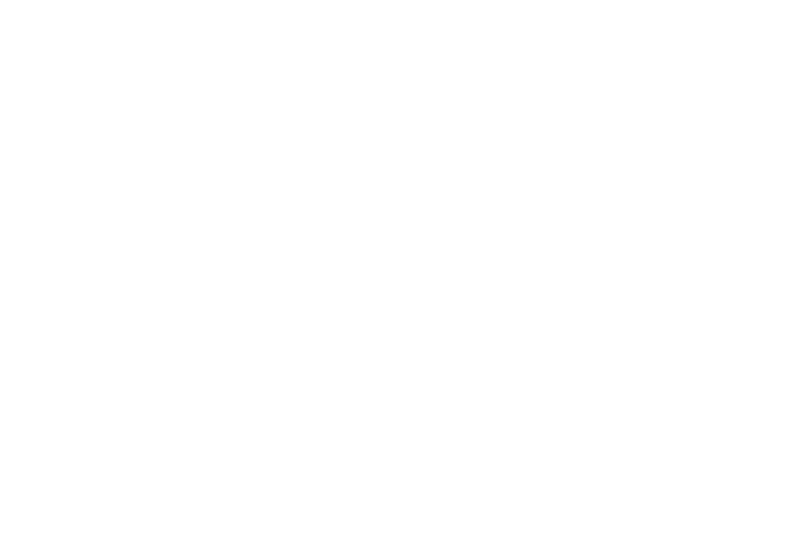
Земельный банк
- Вот этот любитель сигар - Евгений Петрович Любарский-Письменный, пожалуй, второй по величине человек после покойного в харьковском банковском деле. Член правления, действительный статский советник, то бишь «ваше превосходительство». Правда, купленное это превосходительство, так же, как эта сигара. И смердит так же, потому что куплена на украденные деньги. Почти двести тысяч. По ссудам на подложные товарищества и под залоги, которые в глаза никто не видел, и, я так полагаю, никогда не увидит. Плюс векселя, которые не стоят даже бумаги, на которой напечатаны…
Любарский-Письменный пыхнул сигарой, сбросил пепел и, не меняя даже выражения лица, проговорил густым басом:
- Вы, Михаил Павлович, мразь. Если бы не ваша должность, спустил бы я вас с лестницы. Или… - тут статский советник замолк, видимо, решив, что сказал уже достаточно, и снова заткнул рот сигарой.
Реуцкий, казалось, получал настоящее удовольствие от этого спектакля.
- С лестницы? За что же, позвольте? – сказал он весело и продолжил. - Вот это мужчина справа - коллежский советник Николай Петрович Орлов. Выдающийся человек. Примерный семьянин. Настолько примерный, что пристроил всех своих родственников в оба банка. А дальше все как обычно – необеспеченный кредит, векселя и даже расписки! Подумайте только – расписки! К тому же он своим домочадцам - надо же, какая забота - жалованье за год вперед выдал, и немаленькое жалованье, надо сказать. У меня вот – министерского чиновника по особым поручениям и тайного советника – меньше. Обидно! Почему я не родственник Николая Петровича?! Поэтому жизнь моя с рождения полна мытарств и лишений!
Реуцкий уже разошелся не на шутку. Примерный семьянин только едко улыбнулся:
- Вам бы, уважаемый, только напраслину возводить на уважаемых людей.
Гуров уже понял, что по воле тайного советника стал участником заранее заготовленного спектакля. Но, в общем-то, положение складывалось весьма удачно: члены правления, разъяренные поведением Реуцкого, к нему, Гурову, должны быть более благосклонны, если он попытается если не занять их сторону, то, по крайней мере, унять ерничающего советника. Оставалось лишь дать ему закончить. Реуцкий тем временем продолжал:
- Напраслину, говорите? А вот это, господа мои хорошие, суд будет решать. Впрочем, вы, наверное, надеетесь на помощь кандидата прав, Михаила Юльевича Журавлева, сейчас усиленно шуршащего бумагами. Что же, Михаил Юльевич у нас крючкотвор известный. И осторожный, кстати говоря, господин. Сам непосредственного участия в преступных махинациях не принимал, занимаясь лишь приданием всему этому бардаку видимости законности. Но вся эта видимость растает как дым при более-менее серьезной проверке…
Гуров решил, что пора вмешаться.
- Позвольте и мне, Михаил Павлович, высказаться, – сказал он и, обернувшись к толстякам, начал. - Господа, я здесь вовсе не для того, чтобы разбираться в ваших делах, тем более – мало в них смыслю. Прошу лишь заметить, что порывов господина тайного советника я не разделяю. Мы оказались случайными попутчиками, придя сюда, и для меня этот… спектакль стал такой же неожиданностью, как и для вас.
Гуров сел за стол напротив толстяков и посмотрел на Реуцкого. Тот остался стоять, и как будто обиженно отворачиваясь, успел тайком подмигнуть Гурову, поняв его игру. Гуров продолжил:
- Итак, господа, я прислан сюда из столицы, для того чтобы разобраться не столько в обстоятельствах кончины Алексея Кирилловича, сколько в причинах, которые толкнули его на этот шаг.
- А почему бы не разобраться в обстоятельствах? Может быть, эти господа Алчевского и убили? А? Хорошая ведь версия, – вмешался Реуцкий. – Для того чтобы свалить на покойного свои махинации.
Любарский-Письменный тяжело вздохнул, а Гуров возразил:
- Ну эта версия вряд ли хорошая. Будь Алчевский жив, едва ли он допустил бы расследование. Да и вообще, человек этот был ума изворотливого. Правда ведь, Евгений Петрович?
Любарский-Письменный отложил в сторону сигару и проговорил:
- Большого ума был человек. Большого. Такого выдающегося деятеля потеряла Россия…
«А ведь это впервые, когда об Алчевском говорят в таком положительном ключе», - подумал Гуров. Любарский продолжал:
- Все, что делалось по финансовой части и по промышленной, - то лишь по указанию или с ведома Алексея Кирилловича. А что до вольности покойного в распоряжении финансовыми средствами… Именно вольности, а не преступного умысла, - то дела нынче делаются быстро, и ежели покойный и позволял себе обойти правила, то исключительно в интересах вкладчиков.
Тут о себе дали знать вкладчики. За окном усилился шум толпы, послышался свисток городового. Орлов встал:
- Извините, господа. Кажется, дела требуют моего немедленного вмешательства, - и быстро вышел. Тем временем подал голос стряпчий. Говорил он так же неспешно.
- Умысел, умысел, господин Гуров. Был ли он преступен, вот в чем вопрос. Разве не было права у покойного нарушить закон, когда речь шла об интересах тысяч людей, которые пострадали не по воле Алчевского, а исключительно волею обстоятельств, вызванных всеобщим кризисом? И разве не проводил Алексей Кириллович дни и ночи в этом кабинете вместе с нами и еще некоторыми людьми в размышлениях о том, что и каким образом можно спасти? И, в конце концов, разве не за спасением дела, от которого зависит благосостояние тысяч и тысяч людей, поехал Алексей Кириллович в Санкт-Петербург? Итог этого мероприятия, замечу, был трагичен, потому что даже столь сильный человек не выдержал груза ответственности. И разве посмеет кто-то при здравом размышлении бросать тень на покойного или обвинять присутствующих здесь в нечестности?
Гуров подумал, что определенные резоны в словах стряпчего имеются. Тем временем в кабинет вернулся Орлов. Гуров задал вопрос, ради которого, собственно, сюда пришел.
- А если сделать предположение, что смерть Алексея Кирилловича произошла не по его воле, и не по воле случая? Как вы думаете, кто мог желать его смерти? Подчеркну, что предположение это исключительно умозрительное и не подтверждается фактами. Но все же, хотелось бы знать – кто-то желал Алчевскому смерти настолько, что мог бы осуществить задуманное?
Слово взял до того не высказавшийся Орлов.
- Понимаете, господин полицейский надзиратель... Покойный был действительно человеком выдающихся качеств, и в нашем деле был тем гвоздиком, вынув который, можно обрушить все здание. Заинтересованы ли здесь присутствующие или другие соратники, или члены семьи в таком обрушении? Конечно нет. Тем более вы сами видите, - он кивнул в сторону окна, – обрушение уже началось, и вот этот господин, – он с презрением посмотрел на Реуцкого, - только первый всадник грядущего апокалипсиса.
- А кредиторы? – спросил Гуров.
- Да, - снова вступил в разговор Любарский-Письменный. - Самый крупный из них – московские купцы Рябушинские. Господа солидные, староверы. Нет… Не может быть. Да и какой им резон в смерти Алчевского? Будучи живым, он вполне мог бы рассчитаться по своим обязательствам. Отказ министра в заказе и выпуске облигаций - это еще не конец света. Алексей Кириллович был ума ловкого. Я думаю, он нашел бы выход.
- При этом сам он, видимо, не был столь уверен в своей ловкости, раз избрал такой путь разрешения возникших трудностей, – сказал Гуров.
- Ну, чужая душа – потемки, – подал голос Орлов. - В конце концов, что мы знаем друг о друге? Да и знаем ли мы самих себя? – усмехнулся он
В дальнейших философствованиях Гуров не нуждался. Он, в общем-то, узнал то, что хотел. Это ни на шаг не приблизило его ни к чему, но, по крайней мере, исключило из подозреваемых соратников покойного. Правда, вопрос с кредиторами оставался открытым – мог быть какой-то отчаявшийся вкладчик, жизнь которого оказалась разрушенной вместе с крахом банков Алчевского. По своему служебному опыту Гуров знал, что убить можно и за гораздо меньшее. Шел по перрону такой человек и сам думал броситься под поезд, а тут – его главный обидчик, и случай подвернулся…
Гуров стал откланиваться. И даже удостоился того, что толстяки слегка привстали, кивая на прощание, подчеркнуто не обращая внимания на Реуцкого. Тот быстро схватил со стола какую-то бумагу, кажется, первую попавшуюся, что-то быстро написал на ней и бросил обратно на стол.
- За сим откланиваемся, уважаемые. Думаю, скоро свидимся при других обстоятельствах. По делам вашим вам воздастся, вот увидите. Хотя… - он картинно призадумался и неожиданно примирительно добавил: – впрочем, ваше благоразумие еще может смягчить падение.
Ничуть не смущаясь, что в его сторону никто даже не повернул головы, он первым вышел из комнаты. Гуров последовал за ним. В огромном пустом зале их ждали двое, по виду - мелкие служащие. Один из них, подобострастно улыбаясь, сказал:
- Черный ход закрыт. Пожалуйте к парадному, господа.
«Вот гнида», - подумал Гуров, тут же сообразив, зачем Орлов выходил из кабинета.
- Да, задали нам задачку три толстяка, - весело сказал Реуцкий, – Но не демонстрировать же слабину этим жирным пиявкам. К тому же не знаю, как вы, а я чертовски голоден и ждать не намерен. Пойдемте!
Реуцкий первый вышел на улицу. Гуров последовал за ним и услышал, как за спиной захлопнулась массивная дубовая дверь и проскрежетал замок. Путь к отступлению был отрезан. В толпе взгляды многих были прикованы к заветным дверям, поэтому их появление было замечено сразу. «Вот они, вот они!» - зашумели в толпе, которая находилась буквально в трех-четырех саженях. Бежать можно было только вправо, вверх по Сумской, но толпа была слишком близко и уже двигалась на них. Городовой, с которым разговаривал Гуров, остался по ту сторону толпы на площади, и, скорее всего, сейчас соображал, чем вызвано движение людей к Земельному банку. Но даже будь он здесь, что он мог бы сделать?
Дело принимало совсем скверный оборот.
Любарский-Письменный пыхнул сигарой, сбросил пепел и, не меняя даже выражения лица, проговорил густым басом:
- Вы, Михаил Павлович, мразь. Если бы не ваша должность, спустил бы я вас с лестницы. Или… - тут статский советник замолк, видимо, решив, что сказал уже достаточно, и снова заткнул рот сигарой.
Реуцкий, казалось, получал настоящее удовольствие от этого спектакля.
- С лестницы? За что же, позвольте? – сказал он весело и продолжил. - Вот это мужчина справа - коллежский советник Николай Петрович Орлов. Выдающийся человек. Примерный семьянин. Настолько примерный, что пристроил всех своих родственников в оба банка. А дальше все как обычно – необеспеченный кредит, векселя и даже расписки! Подумайте только – расписки! К тому же он своим домочадцам - надо же, какая забота - жалованье за год вперед выдал, и немаленькое жалованье, надо сказать. У меня вот – министерского чиновника по особым поручениям и тайного советника – меньше. Обидно! Почему я не родственник Николая Петровича?! Поэтому жизнь моя с рождения полна мытарств и лишений!
Реуцкий уже разошелся не на шутку. Примерный семьянин только едко улыбнулся:
- Вам бы, уважаемый, только напраслину возводить на уважаемых людей.
Гуров уже понял, что по воле тайного советника стал участником заранее заготовленного спектакля. Но, в общем-то, положение складывалось весьма удачно: члены правления, разъяренные поведением Реуцкого, к нему, Гурову, должны быть более благосклонны, если он попытается если не занять их сторону, то, по крайней мере, унять ерничающего советника. Оставалось лишь дать ему закончить. Реуцкий тем временем продолжал:
- Напраслину, говорите? А вот это, господа мои хорошие, суд будет решать. Впрочем, вы, наверное, надеетесь на помощь кандидата прав, Михаила Юльевича Журавлева, сейчас усиленно шуршащего бумагами. Что же, Михаил Юльевич у нас крючкотвор известный. И осторожный, кстати говоря, господин. Сам непосредственного участия в преступных махинациях не принимал, занимаясь лишь приданием всему этому бардаку видимости законности. Но вся эта видимость растает как дым при более-менее серьезной проверке…
Гуров решил, что пора вмешаться.
- Позвольте и мне, Михаил Павлович, высказаться, – сказал он и, обернувшись к толстякам, начал. - Господа, я здесь вовсе не для того, чтобы разбираться в ваших делах, тем более – мало в них смыслю. Прошу лишь заметить, что порывов господина тайного советника я не разделяю. Мы оказались случайными попутчиками, придя сюда, и для меня этот… спектакль стал такой же неожиданностью, как и для вас.
Гуров сел за стол напротив толстяков и посмотрел на Реуцкого. Тот остался стоять, и как будто обиженно отворачиваясь, успел тайком подмигнуть Гурову, поняв его игру. Гуров продолжил:
- Итак, господа, я прислан сюда из столицы, для того чтобы разобраться не столько в обстоятельствах кончины Алексея Кирилловича, сколько в причинах, которые толкнули его на этот шаг.
- А почему бы не разобраться в обстоятельствах? Может быть, эти господа Алчевского и убили? А? Хорошая ведь версия, – вмешался Реуцкий. – Для того чтобы свалить на покойного свои махинации.
Любарский-Письменный тяжело вздохнул, а Гуров возразил:
- Ну эта версия вряд ли хорошая. Будь Алчевский жив, едва ли он допустил бы расследование. Да и вообще, человек этот был ума изворотливого. Правда ведь, Евгений Петрович?
Любарский-Письменный отложил в сторону сигару и проговорил:
- Большого ума был человек. Большого. Такого выдающегося деятеля потеряла Россия…
«А ведь это впервые, когда об Алчевском говорят в таком положительном ключе», - подумал Гуров. Любарский продолжал:
- Все, что делалось по финансовой части и по промышленной, - то лишь по указанию или с ведома Алексея Кирилловича. А что до вольности покойного в распоряжении финансовыми средствами… Именно вольности, а не преступного умысла, - то дела нынче делаются быстро, и ежели покойный и позволял себе обойти правила, то исключительно в интересах вкладчиков.
Тут о себе дали знать вкладчики. За окном усилился шум толпы, послышался свисток городового. Орлов встал:
- Извините, господа. Кажется, дела требуют моего немедленного вмешательства, - и быстро вышел. Тем временем подал голос стряпчий. Говорил он так же неспешно.
- Умысел, умысел, господин Гуров. Был ли он преступен, вот в чем вопрос. Разве не было права у покойного нарушить закон, когда речь шла об интересах тысяч людей, которые пострадали не по воле Алчевского, а исключительно волею обстоятельств, вызванных всеобщим кризисом? И разве не проводил Алексей Кириллович дни и ночи в этом кабинете вместе с нами и еще некоторыми людьми в размышлениях о том, что и каким образом можно спасти? И, в конце концов, разве не за спасением дела, от которого зависит благосостояние тысяч и тысяч людей, поехал Алексей Кириллович в Санкт-Петербург? Итог этого мероприятия, замечу, был трагичен, потому что даже столь сильный человек не выдержал груза ответственности. И разве посмеет кто-то при здравом размышлении бросать тень на покойного или обвинять присутствующих здесь в нечестности?
Гуров подумал, что определенные резоны в словах стряпчего имеются. Тем временем в кабинет вернулся Орлов. Гуров задал вопрос, ради которого, собственно, сюда пришел.
- А если сделать предположение, что смерть Алексея Кирилловича произошла не по его воле, и не по воле случая? Как вы думаете, кто мог желать его смерти? Подчеркну, что предположение это исключительно умозрительное и не подтверждается фактами. Но все же, хотелось бы знать – кто-то желал Алчевскому смерти настолько, что мог бы осуществить задуманное?
Слово взял до того не высказавшийся Орлов.
- Понимаете, господин полицейский надзиратель... Покойный был действительно человеком выдающихся качеств, и в нашем деле был тем гвоздиком, вынув который, можно обрушить все здание. Заинтересованы ли здесь присутствующие или другие соратники, или члены семьи в таком обрушении? Конечно нет. Тем более вы сами видите, - он кивнул в сторону окна, – обрушение уже началось, и вот этот господин, – он с презрением посмотрел на Реуцкого, - только первый всадник грядущего апокалипсиса.
- А кредиторы? – спросил Гуров.
- Да, - снова вступил в разговор Любарский-Письменный. - Самый крупный из них – московские купцы Рябушинские. Господа солидные, староверы. Нет… Не может быть. Да и какой им резон в смерти Алчевского? Будучи живым, он вполне мог бы рассчитаться по своим обязательствам. Отказ министра в заказе и выпуске облигаций - это еще не конец света. Алексей Кириллович был ума ловкого. Я думаю, он нашел бы выход.
- При этом сам он, видимо, не был столь уверен в своей ловкости, раз избрал такой путь разрешения возникших трудностей, – сказал Гуров.
- Ну, чужая душа – потемки, – подал голос Орлов. - В конце концов, что мы знаем друг о друге? Да и знаем ли мы самих себя? – усмехнулся он
В дальнейших философствованиях Гуров не нуждался. Он, в общем-то, узнал то, что хотел. Это ни на шаг не приблизило его ни к чему, но, по крайней мере, исключило из подозреваемых соратников покойного. Правда, вопрос с кредиторами оставался открытым – мог быть какой-то отчаявшийся вкладчик, жизнь которого оказалась разрушенной вместе с крахом банков Алчевского. По своему служебному опыту Гуров знал, что убить можно и за гораздо меньшее. Шел по перрону такой человек и сам думал броситься под поезд, а тут – его главный обидчик, и случай подвернулся…
Гуров стал откланиваться. И даже удостоился того, что толстяки слегка привстали, кивая на прощание, подчеркнуто не обращая внимания на Реуцкого. Тот быстро схватил со стола какую-то бумагу, кажется, первую попавшуюся, что-то быстро написал на ней и бросил обратно на стол.
- За сим откланиваемся, уважаемые. Думаю, скоро свидимся при других обстоятельствах. По делам вашим вам воздастся, вот увидите. Хотя… - он картинно призадумался и неожиданно примирительно добавил: – впрочем, ваше благоразумие еще может смягчить падение.
Ничуть не смущаясь, что в его сторону никто даже не повернул головы, он первым вышел из комнаты. Гуров последовал за ним. В огромном пустом зале их ждали двое, по виду - мелкие служащие. Один из них, подобострастно улыбаясь, сказал:
- Черный ход закрыт. Пожалуйте к парадному, господа.
«Вот гнида», - подумал Гуров, тут же сообразив, зачем Орлов выходил из кабинета.
- Да, задали нам задачку три толстяка, - весело сказал Реуцкий, – Но не демонстрировать же слабину этим жирным пиявкам. К тому же не знаю, как вы, а я чертовски голоден и ждать не намерен. Пойдемте!
Реуцкий первый вышел на улицу. Гуров последовал за ним и услышал, как за спиной захлопнулась массивная дубовая дверь и проскрежетал замок. Путь к отступлению был отрезан. В толпе взгляды многих были прикованы к заветным дверям, поэтому их появление было замечено сразу. «Вот они, вот они!» - зашумели в толпе, которая находилась буквально в трех-четырех саженях. Бежать можно было только вправо, вверх по Сумской, но толпа была слишком близко и уже двигалась на них. Городовой, с которым разговаривал Гуров, остался по ту сторону толпы на площади, и, скорее всего, сейчас соображал, чем вызвано движение людей к Земельному банку. Но даже будь он здесь, что он мог бы сделать?
Дело принимало совсем скверный оборот.
Гуров и Реуцкий оказались буквально прижатыми к стене банка толпой возмущенных вкладчиков. Наступил тот момент, когда некий общий разум толпы, в существовании которого Гуров был уверен, лично принимая участие в подавлении протестов и просто наблюдая за массовыми беспорядками в Санкт-Петербурге, пребывает в некой растерянности. В этот момент индивидуально-человеческое еще борется с массово-звериным. И никогда еще Гуров не был свидетелем того, как в толпе побеждало человеческое.
Больше года назад он по долгу службы принимал участие в подавлении студенческих волнений Санкт-Петербургского университета. Студенты, сорвав выступление ректора, высыпали на улицу, распевая "Марсельезу". У Румянцевского сквера их встретил полицейский кордон. Тогда пауза длилась несколько секунд, пока чей-то возглас "Братцы, бей их!" не вывел толпу из временного оцепенения, и студенты двинулись на кордон. Несколько десятков студентов были жестоко избиты полицией. Эти события послужили началом общероссийской студенческой забастовки.
Больше года назад он по долгу службы принимал участие в подавлении студенческих волнений Санкт-Петербургского университета. Студенты, сорвав выступление ректора, высыпали на улицу, распевая "Марсельезу". У Румянцевского сквера их встретил полицейский кордон. Тогда пауза длилась несколько секунд, пока чей-то возглас "Братцы, бей их!" не вывел толпу из временного оцепенения, и студенты двинулись на кордон. Несколько десятков студентов были жестоко избиты полицией. Эти события послужили началом общероссийской студенческой забастовки.
Случай этот вспомнился Гурову потому, что слева, отделяя толпу от стены банка, показалась нестройная группа молодых людей, чрезвычайно похожих на студентов. Но это были не студенты. Семинаристы в длинных рясах, весело перекрикиваясь, как будто не замечая толпы, шли вдоль стены. Толпа, как живой организм, качнулась от нового источника возбуждения и попятилась было назад, но затем снова двинулась к стене. Первые вкладчики стали сталкиваться с семинаристами, но разум толпы еще не отреагировал на новоприбывших откровенной враждебностью, и до рукоприкладства не доходило. Первые семинаристы поравнялись с сыщиками, которые, не сговариваясь, побежали к спасительному углу здания, за которым была довольно узкая и короткая улица, ведущая, как помнил Гуров, к Пушкинской.
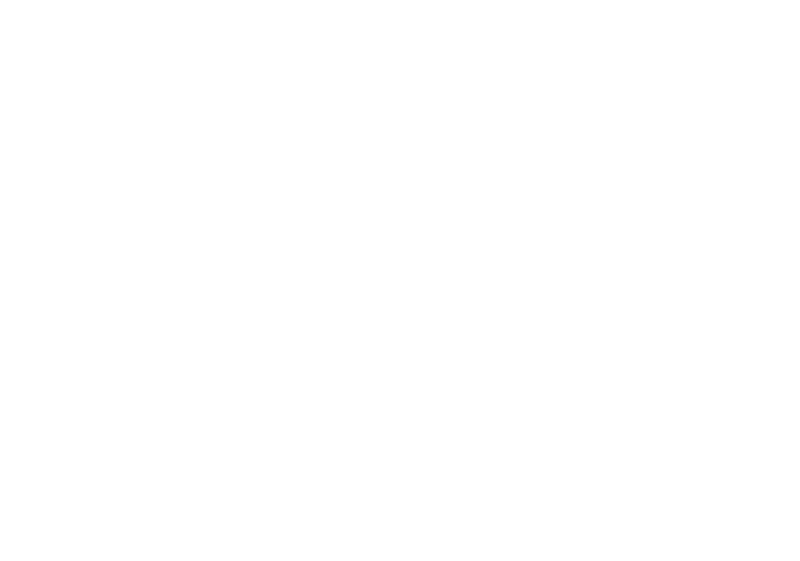
За спиной Гуров началась потасовка, которая сопровождалась понятным каждому русскому нецензурными выкриками и чуждым уху Гурова словечком "раклы". За сыщиками припустили несколько человек, но, лишенные влияния толпы, они быстро обрели человеческий облик - по крайней мере, до той степени, чтобы понять бессмысленность и преступность своей затеи - и остановились. Свернув на Пушкинскую, Гуров и Реуцкий перешли на шаг.
Все еще тяжело дыша, Реуцкий, которого, казалось произошедшее только развлекло, весело заметил:
- Вовремя никонианцы нам пособили. Вот и не верь после этого в промысел Божий.
У Гурова были свои смутные соображения насчет источника этого промысла, но он высказал то, что ему казалось сейчас куда более важным, чем смутные соображения:
- Надо бы выпить.
- И закусить, дорогой Федор Иванович, - отозвался Реуцкий. - Обед никто не отменял. Пойдемте в мою гостиницу, там чудный ресторан, даже по санкт-петербургским меркам. Да что там по санкт-петербургским - по европейским! Я угощаю!
Сыщики прошли вниз по Пушкинской и свернули в конце улицы направо, возвращаясь на площадь, с которой столь счастливо ретировались несколько минут назад. Впрочем, отель находился сразу на углу, и до зданий банков было слишком далеко, чтобы кто-то из толпы смог увидеть беглецов. Но Гурову с этого расстояния удалось рассмотреть, что толпа заметно поредела, и в ней то тут, то там мелькали мундиры городовых. Семинаристов на площади уже не было.
Все еще тяжело дыша, Реуцкий, которого, казалось произошедшее только развлекло, весело заметил:
- Вовремя никонианцы нам пособили. Вот и не верь после этого в промысел Божий.
У Гурова были свои смутные соображения насчет источника этого промысла, но он высказал то, что ему казалось сейчас куда более важным, чем смутные соображения:
- Надо бы выпить.
- И закусить, дорогой Федор Иванович, - отозвался Реуцкий. - Обед никто не отменял. Пойдемте в мою гостиницу, там чудный ресторан, даже по санкт-петербургским меркам. Да что там по санкт-петербургским - по европейским! Я угощаю!
Сыщики прошли вниз по Пушкинской и свернули в конце улицы направо, возвращаясь на площадь, с которой столь счастливо ретировались несколько минут назад. Впрочем, отель находился сразу на углу, и до зданий банков было слишком далеко, чтобы кто-то из толпы смог увидеть беглецов. Но Гурову с этого расстояния удалось рассмотреть, что толпа заметно поредела, и в ней то тут, то там мелькали мундиры городовых. Семинаристов на площади уже не было.
Отель, в котором остановился Реуцкий, назывался "Метрополь", и судя по виду здания и интерьера, был призван не только давать пристанище респектабельным путникам, но и подчеркивать их высокое положение.
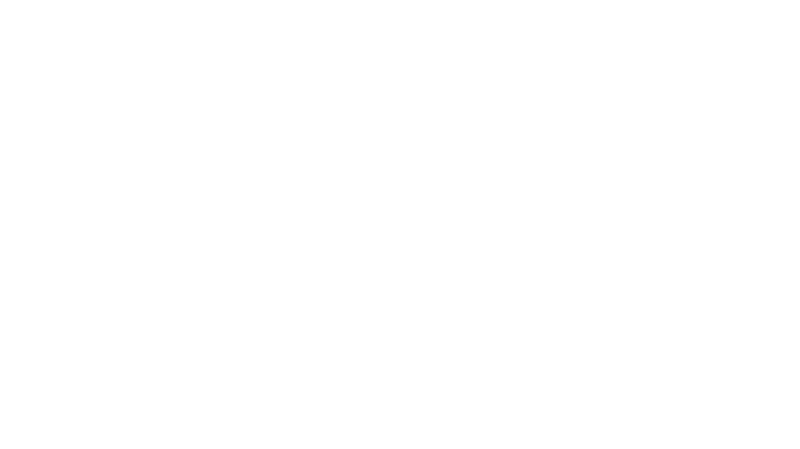
Отель "Метрополь"
- Сегодня суп а-ля рен исключительный, Михаил Павлович, и кот-де-беф а-ля брош, - доложил официант, замерев в подобострастном поклоне, явно заготовленном для особых клиентов.
- Давай-ка, любезный, неси все. Но сейчас - водочки. И закусить. Быстро, - скомандовал Реуцкий. - А вы, Федор Иванович, что будете?
Гуров рассудил, что столь ценному постояльцу, как Реуцкий, вряд ли предложат что-то негодное, и ответил:
- То же самое. Водки и закуски это тоже касается.
Через мгновение на столе появились замороженные хрустальные рюмки, графин водки и розетка с солеными огурцами. Для столь дорогого заведения закуска была простецкой, но, как признал Гуров, весьма отменной.
Реуцкий отмахнулся от официанта, потянувшегося было к графину, и сам разлил водку.
- Ну, за успешное избавление от толпы! И за успех нашего предприятия. Или наших предприятий. Цели у нас все же немного разные.
Сыщики выпили, после чего Реукций зачем-то положил пустую рюмку на бок, еще не раз демонстрируя за время разговора эту странную привычку. Гуров решил осторожно прощупать почву:
- Цели наши, я так понимаю, довольно расплывчаты. Слово "разобраться" в моем и в вашем случае мало что означает...
Реуцкий начал рассказывать:
- Была у меня цель вполне понятная - выяснить способность Донецко-Юрьевского общества выполнить заказ на рельсы, но главное - оценить способность выполнить обязательства по облигациям. Восемь миллионов - сумма солидная, и в случае провала сего мероприятия рынок ценных бумаг империи подвергся бы серьезному удару.
Я ведь с Сергеем Юльевичем Витте лично дружен. Еще со времен его службы в должности министра путей сообщения. Умнейший человек, я вам скажу. Умнейший. Но - путеец. Потом - волею судеб и личных качеств - финансист. В делах промышленных смыслит немного. Я же из семьи уральских промышленников. Кстати, весьма богат, поэтому в мзде не нуждаюсь. Тем, видимо, и ценен - в том числе в качестве проверяющего.
Гуров решил задать вопрос, который давно не давал ему покоя, буквально с того самого момента, когда он начал знакомиться с делом Алчевского. Мелочь вроде, но простые объяснения к ней не клеились, и вопрос этот, как камешек в ботинке, постоянно раздражал и мешал сложить полную мозаику случившегося.
- Сможете ли вы, Михаил Павлович, ответить на вопрос, который давно меня беспокоит? Из-за него картинка не клеится ну никак. Вся эта поездка господина Алчевского выглядит как-то странно. Человек, которые был умен настолько, что сумел сколотить состояние в шестнадцать миллионов, хорошо осведомленный о делах в министерстве и вообще в государстве, вдруг решил, что его предприятие увенчается успехом. Что и заказ будет, и разрешение на выпуск облигаций, чья ценность исключительно этим заказом определялась. Никто в эту затею с самого начала не верил. Вообще никто. А он - верил. Почему? На что он рассчитывал? Имело место вознаграждение, как у нас принято? Но кому? Лично Витте? Не верится. Не потому что я верю в честность российских слуг государевых, вы уж извините, что, возможно, друга вашего обидел. Не верится, потому что игра уж очень крупная, чтобы за мзду сколь угодно большую в нее ввязываться. Да и откуда этой крупной мзде взяться? Покойный и так в долгах как в шелках был... Есть у меня ощущение, что вся эта ситуация имеет под собой какое-то скрытое основание, которое неплохо было бы понять.
Реуцкий посмотрел на Гурова, удивленно приподняв брови.
- А вы действительно человек острого ума, Федор Иванович. Это я без всякой лести. Часто для получения ответов нужно задавать правильные вопросы. Этот вопрос, похоже, кроме вас никто себе так и не задал. Все полагают покойного глуповатым дельцом, который почем-то возомнил, что Витте просто так разрешит ему спасти почти что мертвое дело привлечением средств через выпуск облигаций, да еще подкрепит это заказом на рельсы для Донецко-Юрьевского общества, ведь без этого заказа, как вы правильно заметили, эти облигации не стоили бы ровным счетом ничего.
Реуцкий замолчал. Дождавшись, пока официант сменит тарелки и удалится, он произнес: "Итак...". Но затем смолк, как будто не решаясь продолжать.
- Пообещайте мне, что это останется между нами, - сказал он после длительной паузы.
- Обещаю. Вы можете положиться на мое слово, - ответил Гуров. - Если вы наводили обо мне справки, то должны знать, что слово я свое держу, хоть и даю его неохотно.
Реуцкий вздохнул.
- Ну хорошо. Вот вам ответ на ваш вопрос. Итак, была у меня неофициальная задача - изучить дело господина Алчевского на предмет перехода в казенную часть.
- В казенную часть? - удивился Гуров.
- Ну как в казенную... Скажем так: лицам, близко стоящим к высоким сферам. Самым высоким. И ничего необычно в этом нет. То, что господин Алчевский был близок к краху, в Санкт-Петербурге начали понимать уже давно. Покрывать одни долги другими бесконечно невозможно. Скрывать эти махинации местные господа могли от граждан, чьими жертвами мы только что чуть не стали. Но для людей сведущих в финансах все было ясно как день. И вопрос о том, кому достанутся металлургические предприятия, обсуждался давно. То, что производство рельс для железной дороги - дело крайне прибыльное и для империи важное, вы понимаете. Должны также понимать, что занимаются этим люди очень высоких сфер. Господин Алчевский был очень богат, но в сферы эти не входил. Когда-нибудь, может быть, настанут времена, что в России можно будет вести дела, опираясь только на свой труд и деловую сноровку. Но сейчас, увы, без высокого покровительства - никуда. Поэтому и вопрос - кому достанутся предприятия Алчевского - рассматривается на уровне соответствующем. Поэтому-то и я здесь.
- А что же облигации? Зачем? - спросил Гуров.
- Ну тут все просто. Выпуск облигаций должен был стать началом претворения в жизнь замысла по переходу дела Алчевского в другие руки. Эти самые руки должны были получить предприятия и другое имущество в качестве погашения обязательств по этим самым облигациям.
- Почему так сложно? Почему бы Алчевскому просто не продать акции своих банков, заводов и шахт? - снова спросил Гуров.
- Потому что покупатель в этом случае брал бы на себя вместе с имуществом огромные долги. А так - имущество отходит другим людям, которые сами вроде как такие же кредиторы, как и все остальные, и никаких обязательств перед ними не имеют.
- Не очень красиво по отношению к другим кредиторам... - произнес Гуров задумчиво.
- Да, некрасиво. Но, заметьте, вполне законно. И теперь вы, я думаю, понимаете, какую свинью и кому подложил покойный на Царскосельском вокзале. Что теперь будет - одному Богу ведомо...
Гуров задумался.
- Но почему министр отказал Алчевскому?
- Еще один правильный вопрос, Федор Иванович, - похвалил Реуцкий. - Но ответа на него я не знаю. С министром лично не общался, а телеграфом такие вещи обсуждать, как вы понимаете, невозможно. Я думаю, что-то изменилось в верхах. Подули какие-то новые ветры, природу которых, вполне возможно, и мне узнать не удастся. Спрошу, конечно, при случае, но не исключено, что ответа не получу. И вам ответ на этот вопрос искать не советую - просто по-дружески. Это мы с вами умными вопросами пробавляться любим, а они там такого не терпят.
Гуров задумался. Возможно, ответ на этот вопрос и был ключом к разгадке, но получить его действительно не было никакой возможности. Поэтому он вернулся к вещам более понятным.
- Тогда на сцене вновь появляются остальные кредиторы, - сказал Гуров. - Получается, им была выгодна смерть Алчевского.
- Смерть? Нет. Расстройство этих планов - может быть. Но для этого надо быть о них осведомленным, а готовилось все это в строжайшей тайне. А вот смерть Алчевского точно кредиторам невыгодна. Получить долг с живого - не то же самое, что с мертвого. Вы видели, что происходит вокруг банка и внутри него? Получать долги сейчас, когда дела полностью расстроены, - все равно что вытаскивать вещи из горящего дома. При живом Алчевском можно было достать эти вещи вполне культурно, без паники и не обгоревшими. Понимаете, о чем я?
- Да, но есть же еще крупные кредиторы - те же Рябушинские, например. Сколько, кстати, задолжал им покойный?
- Пять-шесть миллионов, - небрежно отмахнулся Реуцкий, но тут же добавил: - Да, конечно, сумма огромная. Но вы себе представляете, что значит взыскать ее теперь, когда все разваливается на глазах? Для этого нужно было заранее провести ревизию, разобраться в хитросплетениях весьма запутанных дел и обязательств господина Алчевского... Теперь всем кредиторам придется локтями расталкивать друг друга, пытаться откусить хоть что-то, попутно борясь с тремя толстяками, с которыми мы имели счастье разговаривать час назад, и с их подельниками. Со смертью Алчевского ситуация осложнилась и для кредиторов тоже...
Гуров задал еще один вопрос, как бы подводя итог:
- Так что же, выходит, смерть Алчевского никому не была выгодна? Ни партнерам, ни кредиторам... Получается - самоубийство это?
- Сам много над этим думал. Сложный вопрос. С одной стороны - личность покойного. Чтобы Алексей Кириллович на себя руки наложил... Знаком с ним был весьма шапочно. Но не тот это был человек. Не тот. С другой стороны - никому смерть эта не была нужна. Это - факт. Железный такой факт, непробиваемый. Все, что ему противостоит, - соображения "не мог такой человек" и все в таком духе. Но это уже поэзия, область душевных переживаний, которые железных фактов никак не перевешивают.
Реуцкий поставил лежащую на боку рюмку, налил из графина себе и сказал:
- Вот как полезно бывает выговориться. И свои мысли в порядок привел, и вам, Федор Иванович, надеюсь, помог.
Гуров с этим согласился, и снова задумался над тем, что миссия его именно сейчас выглядит особенно бессмысленной. Он уже принял твердое решение. Если за ближайшие два дня он не получит ни малейших доказательств того, что смерть Алчевского была насильственной, то прекратит свое расследование. А пока ему предстоял визит в дом покойного и знакомство с его семейством, которое обещало быть крайне интересным.
- Давай-ка, любезный, неси все. Но сейчас - водочки. И закусить. Быстро, - скомандовал Реуцкий. - А вы, Федор Иванович, что будете?
Гуров рассудил, что столь ценному постояльцу, как Реуцкий, вряд ли предложат что-то негодное, и ответил:
- То же самое. Водки и закуски это тоже касается.
Через мгновение на столе появились замороженные хрустальные рюмки, графин водки и розетка с солеными огурцами. Для столь дорогого заведения закуска была простецкой, но, как признал Гуров, весьма отменной.
Реуцкий отмахнулся от официанта, потянувшегося было к графину, и сам разлил водку.
- Ну, за успешное избавление от толпы! И за успех нашего предприятия. Или наших предприятий. Цели у нас все же немного разные.
Сыщики выпили, после чего Реукций зачем-то положил пустую рюмку на бок, еще не раз демонстрируя за время разговора эту странную привычку. Гуров решил осторожно прощупать почву:
- Цели наши, я так понимаю, довольно расплывчаты. Слово "разобраться" в моем и в вашем случае мало что означает...
Реуцкий начал рассказывать:
- Была у меня цель вполне понятная - выяснить способность Донецко-Юрьевского общества выполнить заказ на рельсы, но главное - оценить способность выполнить обязательства по облигациям. Восемь миллионов - сумма солидная, и в случае провала сего мероприятия рынок ценных бумаг империи подвергся бы серьезному удару.
Я ведь с Сергеем Юльевичем Витте лично дружен. Еще со времен его службы в должности министра путей сообщения. Умнейший человек, я вам скажу. Умнейший. Но - путеец. Потом - волею судеб и личных качеств - финансист. В делах промышленных смыслит немного. Я же из семьи уральских промышленников. Кстати, весьма богат, поэтому в мзде не нуждаюсь. Тем, видимо, и ценен - в том числе в качестве проверяющего.
Гуров решил задать вопрос, который давно не давал ему покоя, буквально с того самого момента, когда он начал знакомиться с делом Алчевского. Мелочь вроде, но простые объяснения к ней не клеились, и вопрос этот, как камешек в ботинке, постоянно раздражал и мешал сложить полную мозаику случившегося.
- Сможете ли вы, Михаил Павлович, ответить на вопрос, который давно меня беспокоит? Из-за него картинка не клеится ну никак. Вся эта поездка господина Алчевского выглядит как-то странно. Человек, которые был умен настолько, что сумел сколотить состояние в шестнадцать миллионов, хорошо осведомленный о делах в министерстве и вообще в государстве, вдруг решил, что его предприятие увенчается успехом. Что и заказ будет, и разрешение на выпуск облигаций, чья ценность исключительно этим заказом определялась. Никто в эту затею с самого начала не верил. Вообще никто. А он - верил. Почему? На что он рассчитывал? Имело место вознаграждение, как у нас принято? Но кому? Лично Витте? Не верится. Не потому что я верю в честность российских слуг государевых, вы уж извините, что, возможно, друга вашего обидел. Не верится, потому что игра уж очень крупная, чтобы за мзду сколь угодно большую в нее ввязываться. Да и откуда этой крупной мзде взяться? Покойный и так в долгах как в шелках был... Есть у меня ощущение, что вся эта ситуация имеет под собой какое-то скрытое основание, которое неплохо было бы понять.
Реуцкий посмотрел на Гурова, удивленно приподняв брови.
- А вы действительно человек острого ума, Федор Иванович. Это я без всякой лести. Часто для получения ответов нужно задавать правильные вопросы. Этот вопрос, похоже, кроме вас никто себе так и не задал. Все полагают покойного глуповатым дельцом, который почем-то возомнил, что Витте просто так разрешит ему спасти почти что мертвое дело привлечением средств через выпуск облигаций, да еще подкрепит это заказом на рельсы для Донецко-Юрьевского общества, ведь без этого заказа, как вы правильно заметили, эти облигации не стоили бы ровным счетом ничего.
Реуцкий замолчал. Дождавшись, пока официант сменит тарелки и удалится, он произнес: "Итак...". Но затем смолк, как будто не решаясь продолжать.
- Пообещайте мне, что это останется между нами, - сказал он после длительной паузы.
- Обещаю. Вы можете положиться на мое слово, - ответил Гуров. - Если вы наводили обо мне справки, то должны знать, что слово я свое держу, хоть и даю его неохотно.
Реуцкий вздохнул.
- Ну хорошо. Вот вам ответ на ваш вопрос. Итак, была у меня неофициальная задача - изучить дело господина Алчевского на предмет перехода в казенную часть.
- В казенную часть? - удивился Гуров.
- Ну как в казенную... Скажем так: лицам, близко стоящим к высоким сферам. Самым высоким. И ничего необычно в этом нет. То, что господин Алчевский был близок к краху, в Санкт-Петербурге начали понимать уже давно. Покрывать одни долги другими бесконечно невозможно. Скрывать эти махинации местные господа могли от граждан, чьими жертвами мы только что чуть не стали. Но для людей сведущих в финансах все было ясно как день. И вопрос о том, кому достанутся металлургические предприятия, обсуждался давно. То, что производство рельс для железной дороги - дело крайне прибыльное и для империи важное, вы понимаете. Должны также понимать, что занимаются этим люди очень высоких сфер. Господин Алчевский был очень богат, но в сферы эти не входил. Когда-нибудь, может быть, настанут времена, что в России можно будет вести дела, опираясь только на свой труд и деловую сноровку. Но сейчас, увы, без высокого покровительства - никуда. Поэтому и вопрос - кому достанутся предприятия Алчевского - рассматривается на уровне соответствующем. Поэтому-то и я здесь.
- А что же облигации? Зачем? - спросил Гуров.
- Ну тут все просто. Выпуск облигаций должен был стать началом претворения в жизнь замысла по переходу дела Алчевского в другие руки. Эти самые руки должны были получить предприятия и другое имущество в качестве погашения обязательств по этим самым облигациям.
- Почему так сложно? Почему бы Алчевскому просто не продать акции своих банков, заводов и шахт? - снова спросил Гуров.
- Потому что покупатель в этом случае брал бы на себя вместе с имуществом огромные долги. А так - имущество отходит другим людям, которые сами вроде как такие же кредиторы, как и все остальные, и никаких обязательств перед ними не имеют.
- Не очень красиво по отношению к другим кредиторам... - произнес Гуров задумчиво.
- Да, некрасиво. Но, заметьте, вполне законно. И теперь вы, я думаю, понимаете, какую свинью и кому подложил покойный на Царскосельском вокзале. Что теперь будет - одному Богу ведомо...
Гуров задумался.
- Но почему министр отказал Алчевскому?
- Еще один правильный вопрос, Федор Иванович, - похвалил Реуцкий. - Но ответа на него я не знаю. С министром лично не общался, а телеграфом такие вещи обсуждать, как вы понимаете, невозможно. Я думаю, что-то изменилось в верхах. Подули какие-то новые ветры, природу которых, вполне возможно, и мне узнать не удастся. Спрошу, конечно, при случае, но не исключено, что ответа не получу. И вам ответ на этот вопрос искать не советую - просто по-дружески. Это мы с вами умными вопросами пробавляться любим, а они там такого не терпят.
Гуров задумался. Возможно, ответ на этот вопрос и был ключом к разгадке, но получить его действительно не было никакой возможности. Поэтому он вернулся к вещам более понятным.
- Тогда на сцене вновь появляются остальные кредиторы, - сказал Гуров. - Получается, им была выгодна смерть Алчевского.
- Смерть? Нет. Расстройство этих планов - может быть. Но для этого надо быть о них осведомленным, а готовилось все это в строжайшей тайне. А вот смерть Алчевского точно кредиторам невыгодна. Получить долг с живого - не то же самое, что с мертвого. Вы видели, что происходит вокруг банка и внутри него? Получать долги сейчас, когда дела полностью расстроены, - все равно что вытаскивать вещи из горящего дома. При живом Алчевском можно было достать эти вещи вполне культурно, без паники и не обгоревшими. Понимаете, о чем я?
- Да, но есть же еще крупные кредиторы - те же Рябушинские, например. Сколько, кстати, задолжал им покойный?
- Пять-шесть миллионов, - небрежно отмахнулся Реуцкий, но тут же добавил: - Да, конечно, сумма огромная. Но вы себе представляете, что значит взыскать ее теперь, когда все разваливается на глазах? Для этого нужно было заранее провести ревизию, разобраться в хитросплетениях весьма запутанных дел и обязательств господина Алчевского... Теперь всем кредиторам придется локтями расталкивать друг друга, пытаться откусить хоть что-то, попутно борясь с тремя толстяками, с которыми мы имели счастье разговаривать час назад, и с их подельниками. Со смертью Алчевского ситуация осложнилась и для кредиторов тоже...
Гуров задал еще один вопрос, как бы подводя итог:
- Так что же, выходит, смерть Алчевского никому не была выгодна? Ни партнерам, ни кредиторам... Получается - самоубийство это?
- Сам много над этим думал. Сложный вопрос. С одной стороны - личность покойного. Чтобы Алексей Кириллович на себя руки наложил... Знаком с ним был весьма шапочно. Но не тот это был человек. Не тот. С другой стороны - никому смерть эта не была нужна. Это - факт. Железный такой факт, непробиваемый. Все, что ему противостоит, - соображения "не мог такой человек" и все в таком духе. Но это уже поэзия, область душевных переживаний, которые железных фактов никак не перевешивают.
Реуцкий поставил лежащую на боку рюмку, налил из графина себе и сказал:
- Вот как полезно бывает выговориться. И свои мысли в порядок привел, и вам, Федор Иванович, надеюсь, помог.
Гуров с этим согласился, и снова задумался над тем, что миссия его именно сейчас выглядит особенно бессмысленной. Он уже принял твердое решение. Если за ближайшие два дня он не получит ни малейших доказательств того, что смерть Алчевского была насильственной, то прекратит свое расследование. А пока ему предстоял визит в дом покойного и знакомство с его семейством, которое обещало быть крайне интересным.
Особняк Алчевских оставлял то же впечатление, что и интерьер Земельного банка. Описать бы словами весь этот поздний ренессанс - показалось бы вычурно и нелепо, но выглядело здание великолепно, сочась сдержанной роскошью.
Расположение окон и террас наводило на мысль о том, что дом этот предназначен не только для того, чтобы задерживать взгляды прохожих и гостей, но и делать жизнь его обитателей как можно более удобной. Гуров в очередной раз мысленно отметил талант архитектора и постучал в дверь.
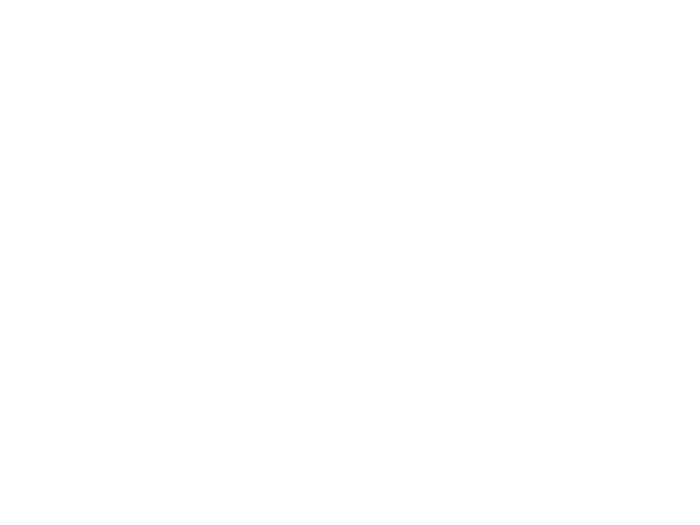
Дом Алчевских
В небольшом, но со вкусом обставленном зале было трое женщин и двое мужчин. Хозяйка дома, с которой Гуров познакомился в Санкт-Петербурге, отрекомендовала его присутствующим как человека, "присланного из Санкт-Петербурга для ознакомления с обстоятельствами смерти Алексея Кирилловича", и начала представлять находившихся в комнате.
- Знакомьтесь, Федор Иванович, это Аннушка.
Женщина средних лет, красивая тихой, не яркой красотой, кивнула с легкой полуулыбкой и обернулась к мужчине, сидевшему рядом, как будто ожидая его одобрения даже столь незначительному проявлению внимания к другому. Так ведут себя только влюбленные женщины, причем влюбленные в законных мужей, а потому имеющие возможность проявлять свои чувства открыто. Гуров сразу понял, кем является сидевший рядом мужчина, и обрадовался возможности поговорить с автором столь выдающихся архитектурных творений.
- Это – Христина, - представила старшая Алчевская барышню лет двадцати, которая рассматривала Гурова с вызовом, граничащим с враждебностью.
- Вы приехали расследовать смерть папы? - прямо спросила Христина и тут же, не дожидаясь ответа, выдала свою версию. - Папа не мог наложить на себя руки. Это сделали его враги!
- Буду очень признателен, если вы назовете их имена, и я всенепременно их допрошу, - заметил Гуров, не особо рассчитывая на ответ, и, конечно, не получил его.
- С пристрастием допросите? - иронично спросила барышня.
- Христина, прекрати! - одернула дочь Алчевская, впрочем, совершенно не зло. Похоже, легкие пикировки, вызванные юношеским бунтарством младшей дочери, были в этой семье привычным делом: никто из присутствующих никак не отреагировал на этот диалог, лишь старшая Анна устало прикрыла глаза.
Гуров подумал, что младшей дочери уже пора бы замуж: еще пару лет, и с таким характером она превратится в одну из высохших телом и душой салонных дам, головы которых полны странных идей типа феминизма. Идей, которые на самом деле, как был уверен Гуров, были лишь способом заменить семейную устроенность.
- А это - Алексей Николаевич, наш зодчий. Вы наверняка уже видели его работы. Наш дом тоже спроектирован именно им, - представила Алчевская архитектора.
Бекетов встал и пожал руку Гурову.
- Знакомьтесь, Федор Иванович, это Аннушка.
Женщина средних лет, красивая тихой, не яркой красотой, кивнула с легкой полуулыбкой и обернулась к мужчине, сидевшему рядом, как будто ожидая его одобрения даже столь незначительному проявлению внимания к другому. Так ведут себя только влюбленные женщины, причем влюбленные в законных мужей, а потому имеющие возможность проявлять свои чувства открыто. Гуров сразу понял, кем является сидевший рядом мужчина, и обрадовался возможности поговорить с автором столь выдающихся архитектурных творений.
- Это – Христина, - представила старшая Алчевская барышню лет двадцати, которая рассматривала Гурова с вызовом, граничащим с враждебностью.
- Вы приехали расследовать смерть папы? - прямо спросила Христина и тут же, не дожидаясь ответа, выдала свою версию. - Папа не мог наложить на себя руки. Это сделали его враги!
- Буду очень признателен, если вы назовете их имена, и я всенепременно их допрошу, - заметил Гуров, не особо рассчитывая на ответ, и, конечно, не получил его.
- С пристрастием допросите? - иронично спросила барышня.
- Христина, прекрати! - одернула дочь Алчевская, впрочем, совершенно не зло. Похоже, легкие пикировки, вызванные юношеским бунтарством младшей дочери, были в этой семье привычным делом: никто из присутствующих никак не отреагировал на этот диалог, лишь старшая Анна устало прикрыла глаза.
Гуров подумал, что младшей дочери уже пора бы замуж: еще пару лет, и с таким характером она превратится в одну из высохших телом и душой салонных дам, головы которых полны странных идей типа феминизма. Идей, которые на самом деле, как был уверен Гуров, были лишь способом заменить семейную устроенность.
- А это - Алексей Николаевич, наш зодчий. Вы наверняка уже видели его работы. Наш дом тоже спроектирован именно им, - представила Алчевская архитектора.
Бекетов встал и пожал руку Гурову.
- Боюсь, мои скромные труды вряд ли смогут удивить петербуржца, привыкшего жить среди творений Растрелли и Росси, - улыбнулся Бекетов.
- Не скажите, - ответил Гуров. - Я был действительно удивлен. Сделать роскошь легкой, подчинить красоту удобству... Думается мне, что и в Санкт-Петербурге вы смогли бы снискать славу и заказы.
- Я здесь родился и вырос. Мечтал изменить именно этот город. К тому же у меня есть куда более серьезные причины, чтобы не уезжать, - он посмотрел на жену, и Гуров понял, что чувства женщины к мужу вполне взаимны.
- Не скажите, - ответил Гуров. - Я был действительно удивлен. Сделать роскошь легкой, подчинить красоту удобству... Думается мне, что и в Санкт-Петербурге вы смогли бы снискать славу и заказы.
- Я здесь родился и вырос. Мечтал изменить именно этот город. К тому же у меня есть куда более серьезные причины, чтобы не уезжать, - он посмотрел на жену, и Гуров понял, что чувства женщины к мужу вполне взаимны.
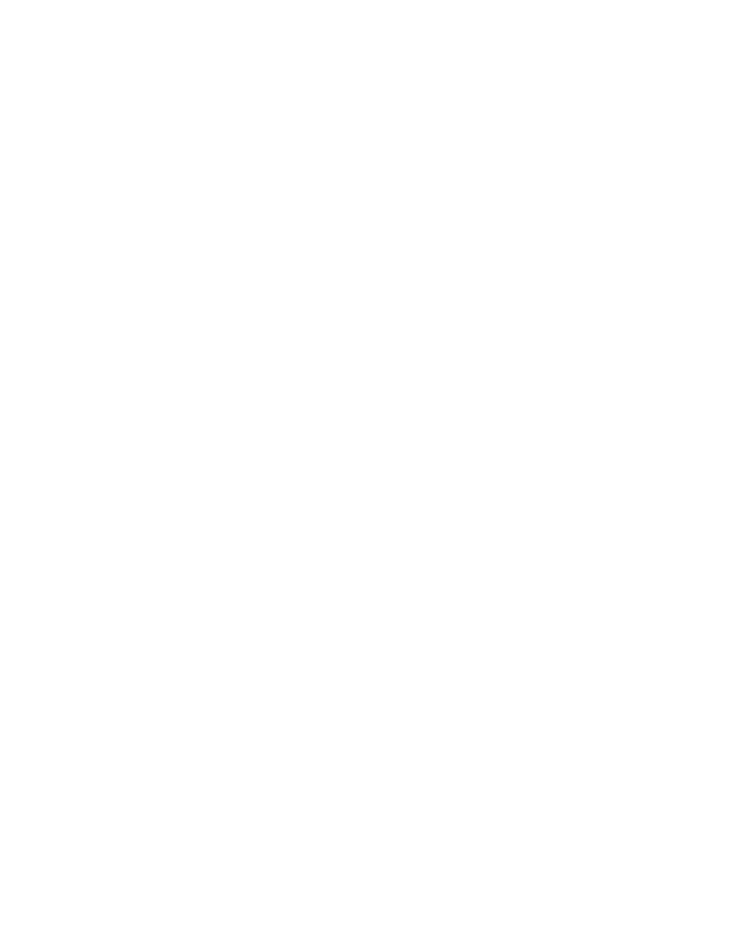
Алексей Бекетов
Один человек в комнате оставался не представленным. Он стоял поодаль, спиной к окну, через которое пробивалось слабеющее, но все еще яркое вечернее солнце. Поэтому вначале Гуров увидел силуэт и лишь после - рассмотрел человека. Хотя рассматривать, в сущности, было нечего: мужчина был напрочь лишен особых примет, невзрачен, стерт. Что его выделяло, так это давно небритая щетина.
- Антонин Людвигович Городецкий, - представила невзрачного человека Алчевская, - личный секретарь Алексея Кирилловича.
Упомянув мужа, она привычным жестом подтерла глаза платком, но слез у вдовы, видимо, уже не осталось.
Городецкий сделал шаг вперед, и только тут Гуров заметил, что особая примета у секретаря все же имеется - настороженный и пытливый взгляд. Это был взгляд человека, который не ждет от окружающего мира ничего хорошего и всегда занят размышлениями о том, как отвести от себя очередную напасть. Видимо, теперь напастью считался Гуров, и Городецкий лишь кивнул, не сделав шага навстречу. При этом он счел нужным сразу определить свое положение в этом доме.
- Я здесь до тех пор, пока не приведу в порядок дела Алексея Кирилловича, по крайней мере - касаемые личных финансов и обязательств.
- Прекратите, - одернула Городецкого мать семейства, так же беззлобно, как дочь. - Вы здесь потому, что были близки моему мужу, он ценил вас, и уже одного этого достаточно для того, чтобы быть здесь как дома. К тому же дела действительно требуют вашего участия. Сама я со всем не справлюсь.
В разговор неожиданно вмешалась Христина:
- Антонин Людвигович так переживает смерть папы, что даже перестал бриться.
Сказано это было иронично и даже зло. То, что младшая дочь покойного не любит секретаря, было очевидно. Так же очевидно было и то, что факт этот здесь общеизвестный, потому что никто, даже мать, на эти слова не отреагировал. Возникла неловкая пауза.
Для Гурова появление еще одного человека, близко знавшего покойного, было неожиданностью, и он решил, что надо бы поговорить с секретарем наедине. Причину неприязни Христины к секретарю тоже стоило прояснить.
- Позвольте позже пообщаться с вами тет-а-тет, Антонин Людвигович, - сказал он и посмотрел на хозяйку дома.
Та быстро пришла на помощь.
- Я думаю, Антонин Людвигович не откажет вам. Как человек осведомленный о делах моего мужа даже больше, чем я, он сможет вам помочь.
Городецкий не смел сопротивляться и коротко сказал:
- В любое время. Гуров повернулся было к Бекетову, увидев в нем человека умного, симпатичного и вполне годного для продолжения светской беседы, но тут в комнату вошел еще один персонаж. Он был огромен, с крупными чертами лица, узкими глазами и длинными усами, которые были направлены не только в сторону, но и немного вперед.
- Вітаю, шановне панство, - громогласно объявил он. - А це, я так розумію, посланець Московії, наших гнобителів, - он ткнул в сторону Гурова пальцем.
Тот подумал было, что вошедший шутит, но в лице последнего не было ни намека на иронию. Огромный указательный палец был направлен на Гурова, как казацкая булава, готовая сокрушить российскую имперскость. Гуров озадаченно посмотрел на хозяйку дома, которая представила вошедшего:
- Николай Иванович Михновский - как всегда, самый бескомпромиссный и шумный из моих учеников.
Повернувшись к Михновскому, она сказала:
- Позвольте представить - полицейский надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Федор Иванович Гуров. Прошу любить и жаловать. Или если хотя бы не любить, то оставить на время пропаганду своих взглядов. И давайте по-русски, из уважения к нашему гостю.
- Уважение?! К надзирателю?.. - начал было великан, но был остановлен взглядом Алчевской.
- Антонин Людвигович Городецкий, - представила невзрачного человека Алчевская, - личный секретарь Алексея Кирилловича.
Упомянув мужа, она привычным жестом подтерла глаза платком, но слез у вдовы, видимо, уже не осталось.
Городецкий сделал шаг вперед, и только тут Гуров заметил, что особая примета у секретаря все же имеется - настороженный и пытливый взгляд. Это был взгляд человека, который не ждет от окружающего мира ничего хорошего и всегда занят размышлениями о том, как отвести от себя очередную напасть. Видимо, теперь напастью считался Гуров, и Городецкий лишь кивнул, не сделав шага навстречу. При этом он счел нужным сразу определить свое положение в этом доме.
- Я здесь до тех пор, пока не приведу в порядок дела Алексея Кирилловича, по крайней мере - касаемые личных финансов и обязательств.
- Прекратите, - одернула Городецкого мать семейства, так же беззлобно, как дочь. - Вы здесь потому, что были близки моему мужу, он ценил вас, и уже одного этого достаточно для того, чтобы быть здесь как дома. К тому же дела действительно требуют вашего участия. Сама я со всем не справлюсь.
В разговор неожиданно вмешалась Христина:
- Антонин Людвигович так переживает смерть папы, что даже перестал бриться.
Сказано это было иронично и даже зло. То, что младшая дочь покойного не любит секретаря, было очевидно. Так же очевидно было и то, что факт этот здесь общеизвестный, потому что никто, даже мать, на эти слова не отреагировал. Возникла неловкая пауза.
Для Гурова появление еще одного человека, близко знавшего покойного, было неожиданностью, и он решил, что надо бы поговорить с секретарем наедине. Причину неприязни Христины к секретарю тоже стоило прояснить.
- Позвольте позже пообщаться с вами тет-а-тет, Антонин Людвигович, - сказал он и посмотрел на хозяйку дома.
Та быстро пришла на помощь.
- Я думаю, Антонин Людвигович не откажет вам. Как человек осведомленный о делах моего мужа даже больше, чем я, он сможет вам помочь.
Городецкий не смел сопротивляться и коротко сказал:
- В любое время. Гуров повернулся было к Бекетову, увидев в нем человека умного, симпатичного и вполне годного для продолжения светской беседы, но тут в комнату вошел еще один персонаж. Он был огромен, с крупными чертами лица, узкими глазами и длинными усами, которые были направлены не только в сторону, но и немного вперед.
- Вітаю, шановне панство, - громогласно объявил он. - А це, я так розумію, посланець Московії, наших гнобителів, - он ткнул в сторону Гурова пальцем.
Тот подумал было, что вошедший шутит, но в лице последнего не было ни намека на иронию. Огромный указательный палец был направлен на Гурова, как казацкая булава, готовая сокрушить российскую имперскость. Гуров озадаченно посмотрел на хозяйку дома, которая представила вошедшего:
- Николай Иванович Михновский - как всегда, самый бескомпромиссный и шумный из моих учеников.
Повернувшись к Михновскому, она сказала:
- Позвольте представить - полицейский надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Федор Иванович Гуров. Прошу любить и жаловать. Или если хотя бы не любить, то оставить на время пропаганду своих взглядов. И давайте по-русски, из уважения к нашему гостю.
- Уважение?! К надзирателю?.. - начал было великан, но был остановлен взглядом Алчевской.
Гурова Михновский заинтересовал. Он, в общем-то, знал, что на окраинах имели место антиимперские настроения, но не ожидал встретить их именно здесь, в Харьковской губернии.
- Николай Иванович у нас националист, - объяснил Бекетов, который, улыбаясь, наблюдал за этой сценой. - Впрочем, при этом адвокат блестящий и человек прелюбопытный. Вскоре сами убедитесь.
- Николай Иванович у нас националист, - объяснил Бекетов, который, улыбаясь, наблюдал за этой сценой. - Впрочем, при этом адвокат блестящий и человек прелюбопытный. Вскоре сами убедитесь.
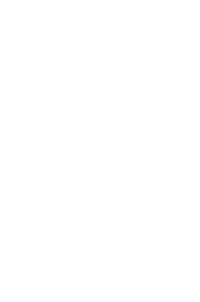
Николай Михновский
Гуров обернулся к набычившемуся Михновскому и сказал как можно более примирительно:
- Я здесь, поверьте, не для того, чтобы надзирать, а для того, чтобы разобраться в обстоятельствах смерти Алексея Кирилловича. И взгляды ваши меня не интересуют. Впрочем, все же интересуют. Раз уж судьба свела меня с носителем столь... необычных настроений, позвольте задать несколько вопросов.
Гуров по опыту общения с людьми убежденными и даже фанатичными знал, что ничто не располагает их к себе так, как разговор о предмете их устремлений. К тому же Гурову, жителю столицы национально разношерстной, а потому не могущей стать местом распространения каких-либо националистических идей, кроме разве что примитивного антисемитизма, действительно было интересно поговорить с националистом.
- Я понимаю, хоть и не всегда разделяю взгляды социалистические. Социальная несправедливость, увы, имеет место, и социальное деление, сопровождаемое классовым неприятием, - вещь вполне оправданная. Но как можно делить людей по национальному признаку? И зачем?
- Ой, берегитесь, Федор Иванович, - перекует вас господин Михновский в свою веру, - насмешливо сказал Бекетов.
- Вас же не перековал, - ответила хозяйка дома, улыбаясь и жестом приглашая мужчин садиться.
- Меня не перекуешь. Всякий художник наследует других, а другие - не всегда одной нации и даже одной культуры. Потому художник по природе своей - космополит, национальные идеи к нему не липнут, - сказал Бекетов, устраиваясь в кресле поудобнее и готовясь слушать обещавший быть очень интересным диалог. Диалог и впрямь получился любопытным. По крайней мере, для Гурова, который узнал много интересного. Например, то, что хозяйка дома, жена крупнейшего российского промышленника, в молодости увлекалась национальными и вообще крамольными идеями и даже состояла в переписке с Герценом. В саду усадьбы Алчевских был установлен бюст полузапрещенного украинского поэта Тараса Шевченко. Михновский никогда не учился в школе, основанной Алчевской, и считался ее "учеником" скорее по причине общности взглядов и разницы в возрасте.
Еще один любопытный факт: младшая дочь Алчевской, Христина, судя по взглядам, которые она то и дело бросала на националиста, была сильно увлечена то ли самим Михновским, то ли его идеями. Гуров так и не разобрался, чем именно, потому что у барышень часто случалось, что эти увлечения были неразрывно связаны. Так что не феминизм интересовал перезревающую младшую дочь, а вещи посерьезнее.
Уже за ужином разговор пошел на более общие темы. Поговорили о Шевченко, с творчеством которого Гуров, к стыду своему, был не особо знаком, и о Гоголе, осознанный переход которого в исключительно русские писатели Михновский считал результатом имперских козней и ставил этот факт в один ряд с "Эмским указом" Александра II, ограничивающим распространение украинского языка. И если за Гоголя Гуров сражался отчаянно, то с несправедливостью этого указа охотно согласился, чем, кажется, даже снискал расположение Христины Алчевской-младшей. В общем, Гуров, против ожидания, хорошо провел время, но для расследования - совершенно бесполезно. Все это к делу гибели Алчевского, кажется, не имело никакого отношения.
Ближе к вечеру, когда уже пришло время прощаться, к Гурову неожиданно обратился секретарь покойного Городецкий, который в разговоре участия не принимал и о существовании которого Гуров почти забыл.
- Перед уходом зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет, - тихо сказал он.
Кабинет Городецкого примыкал к кабинету хозяина дома и был довольно большим. Вдоль стен стояли полки с бумагами, папок было очень много, но все состояло в идеальном порядке. Видно было, что хозяин кабинета - большой педант.
Не успел Гуров переступить порог, как Городецкий протянул ему сложенный лист бумаги.
- Предсмертная записка покойного. Пришла почтой сегодня. Адресована мне. Семье я не показывал. Не решаюсь по малодушию. Им и так многое пришлось пережить.
Гуров начал читать.
"Дорогой Антонин Людвигович! Как ужасно я кончаю... Помогите Христине Даниловне... Скольких людей я погубил, не исключая собственных детей..."
Текст был довольно эмоциональный и пространный, для холодного расчетливого промышленника совершенно не характерный. По представлениям Гурова, такой человек, как Алчевский, перед смертью скорее бы занялся конкретными распоряжениями по финансовой части, чем начал бы впустую сокрушаться о неудачах. Но с другой стороны, наложить на себя руки - деяние эмоциональное, а не расчетливое, так что письмо все же однозначно говорило в пользу версии о самоубийстве.
- Почерк покойного? - скорее для проформы спросил Гуров.
- Однозначно его.
- Конверт? - спросил Гуров.
- Выбросил, - ответил Городецкий.
"Такой педантичный человек выбросил часть столь важного документа?" - подумал Гуров, испытав знакомое каждому сыщику чувство, когда из-за нестыковок мелких деталей нащупывается нить, потянув за которую можно распутать клубок обстоятельств, составляющих истину. Эта нить называется "подозрение".
- Где вы находились в момент смерти господина Алчевского? - спросил Гуров.
- Вы меня подозреваете?
- В чем? Теперь, после этого письма, даже убийство подозревать бессмысленно. Но вопрос я задать должен согласно служебным установлениям.
Ответ этот, кажется, вполне удовлетворил педантичного секретаря.
- В Екатеринославе. Отпросился у Алексея Кирилловича. Батюшка совсем плох. Да я бы там и остался, если бы не известие о смерти...
"Значит, в Харькове секретаря не было", - подумал Гуров и отметил про себя еще одну странность. Почему предсмертное письмо было адресовано именно секретарю, а не супруге, например?
Впрочем, эти подозрения вполне могли оказаться пустыми. В конце концов, почему бы не адресовать личному секретарю просьбу позаботиться о членах семьи и вообще – почему бы не написать перед смертью именно ему как человеку близкому, равно осведомленному и о делах семейных, и о делах коммерческих? А конверт секретарь мог выбросить из того же педантизма – не желая хранить лишние, на его взгляд, бумаги.
В конечном итоге крест на всех этих подозрениях мог поставить один факт - пребывание Городецкого в Екатеринославе в момент трагического происшествия (как именовать это - убийством или самоубийством - Гуров до сих пор не определился). К тому же у секретаря отсутствовал еще один момент, без которого подозрение не могло превратиться в уверенность, - мотив.
В общем, прошедший день выдался весьма насыщенным, но к разгадке ни на шаг не приближающим. Если завтра не случится ничего - надо будет сворачивать расследование, еще раз решил для себя Гуров.
Но следующий день оказался столь богат событиями, что вопрос о продолжении расследования уже не стоял. Причем начались они с самого утра. Врученную посыльным телеграмму из Санкт-Петербурга Гуров рассматривал с оторопью, силясь найти в ее пяти простых словах ответы на примерно десяток вопросов.
- Я здесь, поверьте, не для того, чтобы надзирать, а для того, чтобы разобраться в обстоятельствах смерти Алексея Кирилловича. И взгляды ваши меня не интересуют. Впрочем, все же интересуют. Раз уж судьба свела меня с носителем столь... необычных настроений, позвольте задать несколько вопросов.
Гуров по опыту общения с людьми убежденными и даже фанатичными знал, что ничто не располагает их к себе так, как разговор о предмете их устремлений. К тому же Гурову, жителю столицы национально разношерстной, а потому не могущей стать местом распространения каких-либо националистических идей, кроме разве что примитивного антисемитизма, действительно было интересно поговорить с националистом.
- Я понимаю, хоть и не всегда разделяю взгляды социалистические. Социальная несправедливость, увы, имеет место, и социальное деление, сопровождаемое классовым неприятием, - вещь вполне оправданная. Но как можно делить людей по национальному признаку? И зачем?
- Ой, берегитесь, Федор Иванович, - перекует вас господин Михновский в свою веру, - насмешливо сказал Бекетов.
- Вас же не перековал, - ответила хозяйка дома, улыбаясь и жестом приглашая мужчин садиться.
- Меня не перекуешь. Всякий художник наследует других, а другие - не всегда одной нации и даже одной культуры. Потому художник по природе своей - космополит, национальные идеи к нему не липнут, - сказал Бекетов, устраиваясь в кресле поудобнее и готовясь слушать обещавший быть очень интересным диалог. Диалог и впрямь получился любопытным. По крайней мере, для Гурова, который узнал много интересного. Например, то, что хозяйка дома, жена крупнейшего российского промышленника, в молодости увлекалась национальными и вообще крамольными идеями и даже состояла в переписке с Герценом. В саду усадьбы Алчевских был установлен бюст полузапрещенного украинского поэта Тараса Шевченко. Михновский никогда не учился в школе, основанной Алчевской, и считался ее "учеником" скорее по причине общности взглядов и разницы в возрасте.
Еще один любопытный факт: младшая дочь Алчевской, Христина, судя по взглядам, которые она то и дело бросала на националиста, была сильно увлечена то ли самим Михновским, то ли его идеями. Гуров так и не разобрался, чем именно, потому что у барышень часто случалось, что эти увлечения были неразрывно связаны. Так что не феминизм интересовал перезревающую младшую дочь, а вещи посерьезнее.
Уже за ужином разговор пошел на более общие темы. Поговорили о Шевченко, с творчеством которого Гуров, к стыду своему, был не особо знаком, и о Гоголе, осознанный переход которого в исключительно русские писатели Михновский считал результатом имперских козней и ставил этот факт в один ряд с "Эмским указом" Александра II, ограничивающим распространение украинского языка. И если за Гоголя Гуров сражался отчаянно, то с несправедливостью этого указа охотно согласился, чем, кажется, даже снискал расположение Христины Алчевской-младшей. В общем, Гуров, против ожидания, хорошо провел время, но для расследования - совершенно бесполезно. Все это к делу гибели Алчевского, кажется, не имело никакого отношения.
Ближе к вечеру, когда уже пришло время прощаться, к Гурову неожиданно обратился секретарь покойного Городецкий, который в разговоре участия не принимал и о существовании которого Гуров почти забыл.
- Перед уходом зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет, - тихо сказал он.
Кабинет Городецкого примыкал к кабинету хозяина дома и был довольно большим. Вдоль стен стояли полки с бумагами, папок было очень много, но все состояло в идеальном порядке. Видно было, что хозяин кабинета - большой педант.
Не успел Гуров переступить порог, как Городецкий протянул ему сложенный лист бумаги.
- Предсмертная записка покойного. Пришла почтой сегодня. Адресована мне. Семье я не показывал. Не решаюсь по малодушию. Им и так многое пришлось пережить.
Гуров начал читать.
"Дорогой Антонин Людвигович! Как ужасно я кончаю... Помогите Христине Даниловне... Скольких людей я погубил, не исключая собственных детей..."
Текст был довольно эмоциональный и пространный, для холодного расчетливого промышленника совершенно не характерный. По представлениям Гурова, такой человек, как Алчевский, перед смертью скорее бы занялся конкретными распоряжениями по финансовой части, чем начал бы впустую сокрушаться о неудачах. Но с другой стороны, наложить на себя руки - деяние эмоциональное, а не расчетливое, так что письмо все же однозначно говорило в пользу версии о самоубийстве.
- Почерк покойного? - скорее для проформы спросил Гуров.
- Однозначно его.
- Конверт? - спросил Гуров.
- Выбросил, - ответил Городецкий.
"Такой педантичный человек выбросил часть столь важного документа?" - подумал Гуров, испытав знакомое каждому сыщику чувство, когда из-за нестыковок мелких деталей нащупывается нить, потянув за которую можно распутать клубок обстоятельств, составляющих истину. Эта нить называется "подозрение".
- Где вы находились в момент смерти господина Алчевского? - спросил Гуров.
- Вы меня подозреваете?
- В чем? Теперь, после этого письма, даже убийство подозревать бессмысленно. Но вопрос я задать должен согласно служебным установлениям.
Ответ этот, кажется, вполне удовлетворил педантичного секретаря.
- В Екатеринославе. Отпросился у Алексея Кирилловича. Батюшка совсем плох. Да я бы там и остался, если бы не известие о смерти...
"Значит, в Харькове секретаря не было", - подумал Гуров и отметил про себя еще одну странность. Почему предсмертное письмо было адресовано именно секретарю, а не супруге, например?
Впрочем, эти подозрения вполне могли оказаться пустыми. В конце концов, почему бы не адресовать личному секретарю просьбу позаботиться о членах семьи и вообще – почему бы не написать перед смертью именно ему как человеку близкому, равно осведомленному и о делах семейных, и о делах коммерческих? А конверт секретарь мог выбросить из того же педантизма – не желая хранить лишние, на его взгляд, бумаги.
В конечном итоге крест на всех этих подозрениях мог поставить один факт - пребывание Городецкого в Екатеринославе в момент трагического происшествия (как именовать это - убийством или самоубийством - Гуров до сих пор не определился). К тому же у секретаря отсутствовал еще один момент, без которого подозрение не могло превратиться в уверенность, - мотив.
В общем, прошедший день выдался весьма насыщенным, но к разгадке ни на шаг не приближающим. Если завтра не случится ничего - надо будет сворачивать расследование, еще раз решил для себя Гуров.
Но следующий день оказался столь богат событиями, что вопрос о продолжении расследования уже не стоял. Причем начались они с самого утра. Врученную посыльным телеграмму из Санкт-Петербурга Гуров рассматривал с оторопью, силясь найти в ее пяти простых словах ответы на примерно десяток вопросов.
"Голиаф убит. Будьте осторожнее. Филиппов", - говорилось в телеграмме. Значит, выдумку Гурова из якобы записки от Голиафа насчет того, что Алчевского специально толкнули под поезд, кто-то воспринял всерьез? Почему? Потому что это правда? Кто-то поверил в это? Причем кто-то настолько влиятельный, что смог получить доступ к секретным документам канцелярии санкт-петербургского генерал-губернатора? И при этом настолько неосведомленный о кухне полицейского ведомства, что поверил в содержимое донесения? Но настолько ловкий, что смог быстро найти агента в темных переулках столичного дна? А может быть, это просто случайность? Образ жизни покойного непрямую вел к такому концу. А то, что этот конец пришелся именно на момент, когда Голиаф случайно оказался замешан в расследовании Гурова, - не что иное как стечение обстоятельств.
Был еще один вопрос, который сразу задал себе Гуров. Как Филиппов узнал об убийстве агента? Вряд ли расследование этой смерти проводилось выше околотка, и, конечно, околоточный не мог опознать в покойном агента сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера. О смерти Голиафа даже сам Гуров мог узнать только много месяцев спустя, попытавшись лично с ним встретиться.
Тем временем коридорный, вручивший телеграмму, продолжал маячить рядом.
- Вас там дама ожидают, господин надзиратель, - сказал коридорный, как только Гуров обратил на него внимание.
Тут возник еще один вопрос. О том, кем по должности является Гуров, он сообщал только лицам, причастным к расследованию, и вряд ли широкие народные массы, представителем которых был коридорный, могли быть осведомлены о его положении.
- Откуда вы знаете, кто я? - спросил Гуров, желая сразу получить ответ хотя бы на один вопрос, возникший этим утром.
- Так в газете написали, - ответил коридорный.
Он обернулся к небольшому столику, взял с него газетный лист и протянул Гурову.
Газета называлась "Харьковский листок" и являлась, как было гордо отпечатано, "ежедневной прогрессивной газетой". На главной полосе размещалась заметка о том, что в Харьков прибыл надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Федор Иванович Гуров "для расследования обстоятельств трагической кончины известного харьковского промышленника и мецената Алексея Кирилловича Алчевского, чей славный путь оборвался..." - и так далее, и тому подобное.
Не то чтобы Гуров как-то скрывал свое положение, но и не планировал прославиться на всю губернию стараниями провинциальной прессы.
- Что за женщина? - спросил он раздраженно.
Коридорный проводил Гурова в ресторан и указал на даму, сидящую у окна. На столике стояла чашка с чаем, в руке она держала длинный мундштук с дымящейся папиросой.
Гуров успел оценить визитершу, пока шел к ней, и выводы, которые он сделал, настораживали. Присаживаясь за столик, он уже был готов к неприятностям. Дама была очень красива, но не сдержанной красотой Анны Бекетовой. Это была брюнетка с огромными черными глазами, пухлым ртом, грудью, которой было явно тесно в черном платье - на вид простом, но явно из очень дорогой ткани. В ушах женщины были довольно скромные на первый взгляд серьги с совсем нескромными бриллиантами. Гуров понял, что перед ним - классическая la femme fatale. Из-за таких стрелялись, на таких спускали имения и состояния. Гуров по роду службы сталкивался с подобными дамами и, наблюдая последствия их легкого, но часто фатального порхания по чужим судьбам, предпочитал держаться от них подальше.
- Кто вы? - резко спросил он, очерчивая дистанцию.
- Я редактор той газеты, что вы держите в руках. Елена Владимировна Любарская-Письменная.
Гуров внимательно посмотрел на роковую женщину и решил, что для дочери одного из трех толстяков, с которыми он познакомился вчера в Земельном банке, она все же несколько в возрасте. Значит, супруга.
- Я - жена Евгения Петровича, члена правления банка. С ним вы, насколько я знаю, виделись вчера, - подтвердила она его догадку.
Гуров, вспоминая обстоятельства, при которых они с Реукцим покинули банк, с некоторым злорадством подумал, что Евгению Петровичу с такой женой крайне "повезло", и хорошо он не закончит.
- Я так понимаю, о моем приезде вы узнали от мужа? И как хорошо вы осведомлены о делах супруга и вверенного ему финансового учреждения?
- О, господин сыщик! Неужели я так похожа на быка, которого можно сразу брать за рога? - рассмеялась она кокетливо.
"Начинается", - без всяких эмоций подумал Гуров. В этот момент он совершенно холодно рассуждал про себя о том, может ли от дамочки быть какая-то польза. Тут главное было пережить стадию жеманства и попыток произвести неизгладимое впечатление на особь противоположного пола. Попытки эти, как был уверен Гуров, подобные дамы совершали не по умыслу даже, а повинуясь некому инстинкту.
Впрочем, Любарская-Письменная обманула ожидания Гурова и ломать комедию не стала.
- Я тут для того, чтобы сама задавать вопросы. Как журналист. Итак, как продвигается расследование? У вас уже есть какие-то подозрения? Есть доказательства того, что смерть всеми уважаемого Алексея Кирилловича не была самоубийством? Прогрессивная общественность имеет право знать...
- Я здесь не для того, чтобы удовлетворять любопытство прогрессивной общественности, - резко оборвал этот словесный поток Гуров и, сделав вид, что смягчился, добавил как можно более доверительно. - Тем более, увы, пока что сообщать общественности нечего. Во всяком случае того, что было бы ей интересно. Надеюсь, это не попадет на страницы вашей газеты как доказательство бессилия столичной полиции? - уже совсем заговорщицки добавил он и продолжил:
- А вот вы могли бы мне помочь. Барышня, занимающая столь редкое и удивительное как для русской женщины положение главного редактора газеты должна быть осведомлена о многом, происходящем в городе. К тому же вы - супруга одного из самых уважаемых и состоятельных людей в губернии. Наверняка у вас есть своя версия случившегося. В самоубийство, я так понимаю, вы не верите.
Выдав изрядную порцию лести, Гуров все же на успех особо не рассчитывал и уже приготовился к затяжной и, скорее всего, бесплодной игре "Узнай у собеседника хоть что-то, не сказав ему ничего". Но Любарская-Письменная напротив оказалась очень словоохотливой. Настолько, что Гуров заподозрил, что пришла она не для того, чтобы выведать что-то у него, а для того, чтобы поделиться своими соображениями с целью, например, выгородить мужа.
- Конечно, это не было самоубийством. Не такой человек был Алексей Кириллович.
- Кому же была выгодна его смерть? - спросил Гуров, не особо рассчитывая на какие-то откровения. Их и не последовало.
- Конечно, это кредиторы. Например, братья Рябушинские. Страшные это люди. Очень влиятельные. С такими деньгами и связями им все подвластно. Разве это не очевидно?
Версия о причастности к смерти Алчевского кредиторов была проговорена уже неоднократно и каждый раз не выдерживала никакой критики. Видя безразличие Гурова к этим сведениям, Любарская-Письменная добавила:
- К тому же они - старообрядцы.
Для Гурова это был аргумент, который свидетельствовал скорее в пользу "страшных и влиятельных людей" Рябушинских. Он сталкивался со старообрядцами несколько раз и, несмотря на настороженное отношение к ним в российском обществе, которое подогревалось церковью, относился к старообрядцам с уважением. Люди это были болезненно честные, иногда -даже наивные. К тому же - трудолюбивые и не пьющие. Поэтому не было ничего удивительно в том, что среди членов самых богатых купеческих семей России было много старообрядцев.
- А может быть, это коллеги покойного? - спросил Гуров. - Среди них ведь были люди на руку не чистые, может быть - желающие скрыть свои преступления, готовые пойти ради этого даже на убийство?
Любарская-Письменная тут же бросилась на защиту супруга, приняв этот вопрос за обвинение:
- Что вы такое говорите? Все помыслы соратников были направлены на спасение дела. И спасение это без господина Алчевского - немыслимо.
- Помыслы направлены, говорите? - скептически переспросил Гуров.
- Мой муж буквально ночевал в банке, готовя предложения, отстаивать которые Алексей Кириллович поехал в Санкт-Петербург. Выпуск облигаций и получение заказа надо было обосновать. Документов готовилось много, и я еще не помню случая, когда деловые люди были столь внимательны к каждому написанному на бумаге слову. Даже к моей помощи обращались, - с гордостью добавила она.
- И кто же читал все это творчество? И когда? - спросил Гуров, все еще полагая рассказанное лишь частью нехитрой стратегии провинциальной газетчицы по защите своего мужа.
- Вы не понимаете? Вы ничего не понимаете! - с вызовом и торжеством сказала Любарская-Письменная. - Министр должен был на что-то наложить свою резолюцию. На какую-то бумагу. Это было прошение. Но прошение, подкрепленное связными аргументами, изложенными на многих листах, с цифрами и выводами. Или вы думаете, Витте оказал бы государственную помощь за красивые глаза господина Алчевского?!
По поводу того, за что оказывается государственная помощь в России, у Гурова были свои соображения, но сведения, изложенные женой банкира, оказались весьма любопытны. О том, что возможному решению министерства предшествовала такая серьезная работа, Гуров даже не подумал. В целом это выглядело логичным, если бы не один вопрос, который Гуров тут же задал:
- Но кто и когда бы успел с этим всем ознакомиться и сделать выводы для того, чтобы, я так понимаю, доложить министру? Ведь на это тоже нужен не один день?
- Все просто, - сказала Любарская-Письменная таким тоном, будто Гуров утомил ее своей глупостью, не понимая очевидного. - Пакет с бумагами был отправлен заранее, почтой. На адрес Министерства финансов.
- Кем?
- Лично Алексеем Кирилловичем, я полагаю. Вряд ли такое важное дело могло быть поручено приказчику, - сказала банкирша. Судя по тону, она окончательно разуверилась в умственных способностях Гурова.
Гуров и сам был от себя не восторге, хотя никак не мог быть осведомлен о тонкостях делопроизводства в высоких министерских сферах.
Получив известие о смерти Голиафа, он совершенно забыл о том, что должен дать телеграмму в Санкт-Петербург, запросив помощи в проверке алиби секретаря Алчевского. Теперь к этому тексту следовало добавить еще один запрос.
Он раскланялся с Любарской-Письменной и, наблюдая в окно за тем, как она усаживается в коляску, заметил, что вместе с ним за красивой банкиршей-газетчицей, не мигая и отвесив челюсть, наблюдает стоящий на улице его детина-соглядатай, о котором он почти что забыл. Детина почувствовал на себе взгляд Гурова и обернулся. Гуров озорно подмигнул ему, тот покраснел и отвернулся.
Раз уж благодаря газете весь город узнал, кто он такой и зачем приехал в Харьков, Гуров решил сходить или съездить на почту сам, не доверяя отправку телеграммы в Санкт-Петербург гостиничному посыльному.
Перед этим он поднялся в номер и, достав из саквояжа кобуру и пистолет, вооружился самозарядным браунингом 1900, номер в названии которого означал год выпуска. Был этот пистолет новинкой, но уже снискал славу среди служивых империи и стал называться уважительно "Браунинг номер один". Он действительно был первым по мягкости спуска, точности и, что немаловажно, - габаритам и весу. Эти преимущества оценила и другая публика. Экземпляр, находящийся у Гурова, был найден при обыске у одного налетчика и не попал в протокол изъятого имущества, тут же перекочевав в карман надзирателя. О чем Гуров нисколько не переживал: если государство не удосуживается обеспечивать своих прямых слуг оружием, то почему бы слугам не озаботиться самим этим важным, а иногда - жизненно важным вопросом?
Выходя из номера, он снова встретил коридорного, который протянул еще одно послание. Гуров уже не ждал хороших известий, поэтому принял карточку со вздохом, но это было лишь приглашение посетить дом госпожи Хариной, находящийся по переулку, названному в честь хозяйки дома Харинским. Это было довольно необычно. Все остальное было вполне обычным - бумага с нелепыми провинциальными вензелями по углам и обещание "интересного общества и отменного ужина". Гуров не решил, что делать с приглашением, и положил его в карман.
На почте он дал Филиппову телеграмму следующего содержания: "Проверить секретарь А Антонин Людвигович Городецкий находился в Екатеринославе. Бумаги А присланные в министерство финансов поручить Кацеву".
Кацев в сыскной части Санкт-Петербурга был человеком уникальным. Как удалось столь явному по виду еврею получить место в столичной полиции, пусть и в качестве вольнонаемного, - было загадкой. Но факт оставался фактом: человек, которого называли Кацманом, отмечая его происхождение, при этом пользовался таким авторитетом среди коллег, что даже самые ярые антисемиты, коих в полиции было немало, проломили бы голову всякому, кто осмелился высказаться против Карла Генриховича. Дело в том, что был Кацев специалистом по любым бумагам - от счетов и расписок до контрактов и прочих финансовых документов. Он раскрыл несколько громких дел, фигуранты которых, находясь теперь на каторге, наверняка раскаивались в том, что полагали полицейских тупыми и безграмотными служаками.
Просьба об участии Кацева должна была дать понять Филиппову, что дело важное. Хотя сам Гуров в важности этого дела уверен не был. Могли бумаги, высланные из Харькова, стать причиной отказа Витте даже встречаться с Алчевским? Ведущая в тупик версия Реуцкого о каких-то "ветрах в верхах" казалась более правдоподобной. Но версию о бумагах все же стоило проверить.
Харьковское почтово-телеграфное отделение находилось неподалеку от Губернаторской улицы, поднявшись по которой и перейдя оживленную Пушкинскую, Гуров снова оказался у особняка Алчевских.
Был еще один вопрос, который сразу задал себе Гуров. Как Филиппов узнал об убийстве агента? Вряд ли расследование этой смерти проводилось выше околотка, и, конечно, околоточный не мог опознать в покойном агента сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера. О смерти Голиафа даже сам Гуров мог узнать только много месяцев спустя, попытавшись лично с ним встретиться.
Тем временем коридорный, вручивший телеграмму, продолжал маячить рядом.
- Вас там дама ожидают, господин надзиратель, - сказал коридорный, как только Гуров обратил на него внимание.
Тут возник еще один вопрос. О том, кем по должности является Гуров, он сообщал только лицам, причастным к расследованию, и вряд ли широкие народные массы, представителем которых был коридорный, могли быть осведомлены о его положении.
- Откуда вы знаете, кто я? - спросил Гуров, желая сразу получить ответ хотя бы на один вопрос, возникший этим утром.
- Так в газете написали, - ответил коридорный.
Он обернулся к небольшому столику, взял с него газетный лист и протянул Гурову.
Газета называлась "Харьковский листок" и являлась, как было гордо отпечатано, "ежедневной прогрессивной газетой". На главной полосе размещалась заметка о том, что в Харьков прибыл надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Федор Иванович Гуров "для расследования обстоятельств трагической кончины известного харьковского промышленника и мецената Алексея Кирилловича Алчевского, чей славный путь оборвался..." - и так далее, и тому подобное.
Не то чтобы Гуров как-то скрывал свое положение, но и не планировал прославиться на всю губернию стараниями провинциальной прессы.
- Что за женщина? - спросил он раздраженно.
Коридорный проводил Гурова в ресторан и указал на даму, сидящую у окна. На столике стояла чашка с чаем, в руке она держала длинный мундштук с дымящейся папиросой.
Гуров успел оценить визитершу, пока шел к ней, и выводы, которые он сделал, настораживали. Присаживаясь за столик, он уже был готов к неприятностям. Дама была очень красива, но не сдержанной красотой Анны Бекетовой. Это была брюнетка с огромными черными глазами, пухлым ртом, грудью, которой было явно тесно в черном платье - на вид простом, но явно из очень дорогой ткани. В ушах женщины были довольно скромные на первый взгляд серьги с совсем нескромными бриллиантами. Гуров понял, что перед ним - классическая la femme fatale. Из-за таких стрелялись, на таких спускали имения и состояния. Гуров по роду службы сталкивался с подобными дамами и, наблюдая последствия их легкого, но часто фатального порхания по чужим судьбам, предпочитал держаться от них подальше.
- Кто вы? - резко спросил он, очерчивая дистанцию.
- Я редактор той газеты, что вы держите в руках. Елена Владимировна Любарская-Письменная.
Гуров внимательно посмотрел на роковую женщину и решил, что для дочери одного из трех толстяков, с которыми он познакомился вчера в Земельном банке, она все же несколько в возрасте. Значит, супруга.
- Я - жена Евгения Петровича, члена правления банка. С ним вы, насколько я знаю, виделись вчера, - подтвердила она его догадку.
Гуров, вспоминая обстоятельства, при которых они с Реукцим покинули банк, с некоторым злорадством подумал, что Евгению Петровичу с такой женой крайне "повезло", и хорошо он не закончит.
- Я так понимаю, о моем приезде вы узнали от мужа? И как хорошо вы осведомлены о делах супруга и вверенного ему финансового учреждения?
- О, господин сыщик! Неужели я так похожа на быка, которого можно сразу брать за рога? - рассмеялась она кокетливо.
"Начинается", - без всяких эмоций подумал Гуров. В этот момент он совершенно холодно рассуждал про себя о том, может ли от дамочки быть какая-то польза. Тут главное было пережить стадию жеманства и попыток произвести неизгладимое впечатление на особь противоположного пола. Попытки эти, как был уверен Гуров, подобные дамы совершали не по умыслу даже, а повинуясь некому инстинкту.
Впрочем, Любарская-Письменная обманула ожидания Гурова и ломать комедию не стала.
- Я тут для того, чтобы сама задавать вопросы. Как журналист. Итак, как продвигается расследование? У вас уже есть какие-то подозрения? Есть доказательства того, что смерть всеми уважаемого Алексея Кирилловича не была самоубийством? Прогрессивная общественность имеет право знать...
- Я здесь не для того, чтобы удовлетворять любопытство прогрессивной общественности, - резко оборвал этот словесный поток Гуров и, сделав вид, что смягчился, добавил как можно более доверительно. - Тем более, увы, пока что сообщать общественности нечего. Во всяком случае того, что было бы ей интересно. Надеюсь, это не попадет на страницы вашей газеты как доказательство бессилия столичной полиции? - уже совсем заговорщицки добавил он и продолжил:
- А вот вы могли бы мне помочь. Барышня, занимающая столь редкое и удивительное как для русской женщины положение главного редактора газеты должна быть осведомлена о многом, происходящем в городе. К тому же вы - супруга одного из самых уважаемых и состоятельных людей в губернии. Наверняка у вас есть своя версия случившегося. В самоубийство, я так понимаю, вы не верите.
Выдав изрядную порцию лести, Гуров все же на успех особо не рассчитывал и уже приготовился к затяжной и, скорее всего, бесплодной игре "Узнай у собеседника хоть что-то, не сказав ему ничего". Но Любарская-Письменная напротив оказалась очень словоохотливой. Настолько, что Гуров заподозрил, что пришла она не для того, чтобы выведать что-то у него, а для того, чтобы поделиться своими соображениями с целью, например, выгородить мужа.
- Конечно, это не было самоубийством. Не такой человек был Алексей Кириллович.
- Кому же была выгодна его смерть? - спросил Гуров, не особо рассчитывая на какие-то откровения. Их и не последовало.
- Конечно, это кредиторы. Например, братья Рябушинские. Страшные это люди. Очень влиятельные. С такими деньгами и связями им все подвластно. Разве это не очевидно?
Версия о причастности к смерти Алчевского кредиторов была проговорена уже неоднократно и каждый раз не выдерживала никакой критики. Видя безразличие Гурова к этим сведениям, Любарская-Письменная добавила:
- К тому же они - старообрядцы.
Для Гурова это был аргумент, который свидетельствовал скорее в пользу "страшных и влиятельных людей" Рябушинских. Он сталкивался со старообрядцами несколько раз и, несмотря на настороженное отношение к ним в российском обществе, которое подогревалось церковью, относился к старообрядцам с уважением. Люди это были болезненно честные, иногда -даже наивные. К тому же - трудолюбивые и не пьющие. Поэтому не было ничего удивительно в том, что среди членов самых богатых купеческих семей России было много старообрядцев.
- А может быть, это коллеги покойного? - спросил Гуров. - Среди них ведь были люди на руку не чистые, может быть - желающие скрыть свои преступления, готовые пойти ради этого даже на убийство?
Любарская-Письменная тут же бросилась на защиту супруга, приняв этот вопрос за обвинение:
- Что вы такое говорите? Все помыслы соратников были направлены на спасение дела. И спасение это без господина Алчевского - немыслимо.
- Помыслы направлены, говорите? - скептически переспросил Гуров.
- Мой муж буквально ночевал в банке, готовя предложения, отстаивать которые Алексей Кириллович поехал в Санкт-Петербург. Выпуск облигаций и получение заказа надо было обосновать. Документов готовилось много, и я еще не помню случая, когда деловые люди были столь внимательны к каждому написанному на бумаге слову. Даже к моей помощи обращались, - с гордостью добавила она.
- И кто же читал все это творчество? И когда? - спросил Гуров, все еще полагая рассказанное лишь частью нехитрой стратегии провинциальной газетчицы по защите своего мужа.
- Вы не понимаете? Вы ничего не понимаете! - с вызовом и торжеством сказала Любарская-Письменная. - Министр должен был на что-то наложить свою резолюцию. На какую-то бумагу. Это было прошение. Но прошение, подкрепленное связными аргументами, изложенными на многих листах, с цифрами и выводами. Или вы думаете, Витте оказал бы государственную помощь за красивые глаза господина Алчевского?!
По поводу того, за что оказывается государственная помощь в России, у Гурова были свои соображения, но сведения, изложенные женой банкира, оказались весьма любопытны. О том, что возможному решению министерства предшествовала такая серьезная работа, Гуров даже не подумал. В целом это выглядело логичным, если бы не один вопрос, который Гуров тут же задал:
- Но кто и когда бы успел с этим всем ознакомиться и сделать выводы для того, чтобы, я так понимаю, доложить министру? Ведь на это тоже нужен не один день?
- Все просто, - сказала Любарская-Письменная таким тоном, будто Гуров утомил ее своей глупостью, не понимая очевидного. - Пакет с бумагами был отправлен заранее, почтой. На адрес Министерства финансов.
- Кем?
- Лично Алексеем Кирилловичем, я полагаю. Вряд ли такое важное дело могло быть поручено приказчику, - сказала банкирша. Судя по тону, она окончательно разуверилась в умственных способностях Гурова.
Гуров и сам был от себя не восторге, хотя никак не мог быть осведомлен о тонкостях делопроизводства в высоких министерских сферах.
Получив известие о смерти Голиафа, он совершенно забыл о том, что должен дать телеграмму в Санкт-Петербург, запросив помощи в проверке алиби секретаря Алчевского. Теперь к этому тексту следовало добавить еще один запрос.
Он раскланялся с Любарской-Письменной и, наблюдая в окно за тем, как она усаживается в коляску, заметил, что вместе с ним за красивой банкиршей-газетчицей, не мигая и отвесив челюсть, наблюдает стоящий на улице его детина-соглядатай, о котором он почти что забыл. Детина почувствовал на себе взгляд Гурова и обернулся. Гуров озорно подмигнул ему, тот покраснел и отвернулся.
Раз уж благодаря газете весь город узнал, кто он такой и зачем приехал в Харьков, Гуров решил сходить или съездить на почту сам, не доверяя отправку телеграммы в Санкт-Петербург гостиничному посыльному.
Перед этим он поднялся в номер и, достав из саквояжа кобуру и пистолет, вооружился самозарядным браунингом 1900, номер в названии которого означал год выпуска. Был этот пистолет новинкой, но уже снискал славу среди служивых империи и стал называться уважительно "Браунинг номер один". Он действительно был первым по мягкости спуска, точности и, что немаловажно, - габаритам и весу. Эти преимущества оценила и другая публика. Экземпляр, находящийся у Гурова, был найден при обыске у одного налетчика и не попал в протокол изъятого имущества, тут же перекочевав в карман надзирателя. О чем Гуров нисколько не переживал: если государство не удосуживается обеспечивать своих прямых слуг оружием, то почему бы слугам не озаботиться самим этим важным, а иногда - жизненно важным вопросом?
Выходя из номера, он снова встретил коридорного, который протянул еще одно послание. Гуров уже не ждал хороших известий, поэтому принял карточку со вздохом, но это было лишь приглашение посетить дом госпожи Хариной, находящийся по переулку, названному в честь хозяйки дома Харинским. Это было довольно необычно. Все остальное было вполне обычным - бумага с нелепыми провинциальными вензелями по углам и обещание "интересного общества и отменного ужина". Гуров не решил, что делать с приглашением, и положил его в карман.
На почте он дал Филиппову телеграмму следующего содержания: "Проверить секретарь А Антонин Людвигович Городецкий находился в Екатеринославе. Бумаги А присланные в министерство финансов поручить Кацеву".
Кацев в сыскной части Санкт-Петербурга был человеком уникальным. Как удалось столь явному по виду еврею получить место в столичной полиции, пусть и в качестве вольнонаемного, - было загадкой. Но факт оставался фактом: человек, которого называли Кацманом, отмечая его происхождение, при этом пользовался таким авторитетом среди коллег, что даже самые ярые антисемиты, коих в полиции было немало, проломили бы голову всякому, кто осмелился высказаться против Карла Генриховича. Дело в том, что был Кацев специалистом по любым бумагам - от счетов и расписок до контрактов и прочих финансовых документов. Он раскрыл несколько громких дел, фигуранты которых, находясь теперь на каторге, наверняка раскаивались в том, что полагали полицейских тупыми и безграмотными служаками.
Просьба об участии Кацева должна была дать понять Филиппову, что дело важное. Хотя сам Гуров в важности этого дела уверен не был. Могли бумаги, высланные из Харькова, стать причиной отказа Витте даже встречаться с Алчевским? Ведущая в тупик версия Реуцкого о каких-то "ветрах в верхах" казалась более правдоподобной. Но версию о бумагах все же стоило проверить.
Харьковское почтово-телеграфное отделение находилось неподалеку от Губернаторской улицы, поднявшись по которой и перейдя оживленную Пушкинскую, Гуров снова оказался у особняка Алчевских.
Городецкий смотрел на Гурова так же настороженно, как и при первой встрече. Гуров, конечно, не надеялся притупить бдительность секретаря. Но следовало попытаться хоть как-то растопить лед.
- Вы уж простите великодушно, Антонин Людвигович, что вас беспокою, однако кое-какие обстоятельства все же нуждаются в уточнении. А кто может сделать это лучше, чем вы? Кто еще был столь близок к покойному в финансовых делах? Так вот, есть одна ситуация, которую неплохо было бы прояснить. Мне недавно стало известно, причем совершенно случайно, что визиту Алексея Кирилловича в Санкт-Петербург предшествовала отправка почтой неких документов, обосновывающих его просьбу. Вам об этом что-то известно?
Городецкий опустил голову и несколько секунд рассматривал свой идеально чистый стол.
- Да, были такие документы, - ответил он, выдохнув, будто на что-то решившись. - Но я к их подготовке отношения не имел. Что в них было - вам лучше поинтересоваться у банкиров. Я в этих делах не очень сведущ, потому что занимался исключительно личными и семейными финансами господина Алчевского. Поэтому к работе над этими документами не привлекался. Что они готовились - знаю. Но больше, увы, сообщить ничего не смогу.
- Кто их отправлял?
- Не знаю. Может быть - лично Алексей Кириллович, может быть - кто-то из банка. Вам бы лучше обратиться к Любарскому-Письменному с этими вопросами.
Гуров понял, что пришел зря, и решил выяснить хоть что-то - в конце концов, Городецкий наверняка знал многое. Но сложилась крайне неприятная для Гурова ситуация, когда подступиться к источнику знаний было решительно не с чем. Никакого внятного вопроса, которым, как удочкой, можно было бы вытянуть что-то полезное, в голове не рождалось. Поэтому Гуров решил просто поинтересоваться мнением Городецкого.
- Но о сути предложений вы наверняка были осведомлены. Что вы сами об этом думаете? Были шансы на успех у этого предприятия?
Городецкий, против ожидания, не стал замыкаться и прятаться за неосведомленность.
- Нет. Не было никаких шансов. Я до сих пор не понимаю, что давало Алексею Кирилловичу основания думать иначе. Если хотите знать мое мнение - надо было предложение бельгийцев принимать.
- Какое предложение? - быстро спросил Гуров, поняв, что невод общего вопроса, похоже, выудит-таки что-то дельное.
- История это общеизвестная. Около полугода назад, когда дела уже были плохи, бельгийские коммерсанты предложили Алчевскому продать все его пятисотрублевые акции в Алексеевском горнопромышленном обществе по две тысячи рублей. Выручка бы составила 20 миллионов рублей. Это с лихвой покрыло бы все долги.
- И почему же Алексей Кириллович на согласился?
- Только Бог знает почему. Он тогда сказал длинную речь в том смысле, что негоже его детям жить с капитала, и вообще такое важное дело не должно быть за иностранцами. Хотя до этого с иностранцами он дела вел весьма успешно и неоднократно высказывался о том, что иностранный капитал приносит в Россию нужные империи новые знания в горном и финансовом деле. В общем, никаких патриотических взглядов до того он не выказывал.
- А дети? Может быть, он действительно хотел оставить дело сыновьям? - спросил Гуров, который знал, что, кроме дочерей, у Алчевского осталось четыре сына, которые все были в отъезде, поэтому с ними он так и не познакомился.
- А что дети? К делам интерес проявлял только Дмитрий, да и то - весьма поверхностно, скорее, по причине отсутствия других талантов. Остальные три сына пошли по культурной, так сказать, линии. Пение да театр – вот все, что их интересует. К тому же риск полного банкротства был слишком велик. Так что Алексей Кириллович имел реальный шанс оставить детям не дело, а долги. Что, к слову сказать, и произошло. Дела очень плохи. Очень. Возможно - придется продать даже этот дом.
Гуров, пользуясь случаем, решил попросить помощи у секретаря. Во-первых, потому, что, как он знал, ничто так не располагает человека, как возможность почувствовать себя благодетелем или, по крайней мере, оказавшим услугу. А расположение столь осведомленного человека Гурову могло пригодиться, несмотря на некоторые подозрения в его отношении. А во-вторых, небольшая помощь действительно была нужна.
- Окажите помощь, Антонин Людвигович, - начал он, доставая из кармана приглашение. - Мне вот что принесли в гостиницу. А я не знаю, стоит ли откликаться? Кто такая эта самая Харина?
- О! Это очень интересная женщина, - Городецкий впервые за время знакомства с Гуровым широко улыбнулся, и тот подумал, что секретарь, встреться они при других обстоятельствах, вполне мог показаться человеком приятным. - Вдова одного крупного местного купца, у которой обычно собирается хорошее общество. Не дворянство, нет: эта публика предпочитает владения своего предводителя или губернатора, - усмехнулся Городецкий. - У Хариной обычно бывают коммерсанты, врачи, чиновники... В общем - люди при деле. А также художники, поэты и прочая крайне интересная публика. В общем - сходите, не пожалеете. К тому же там, кажется, обещал сегодня быть Любарский-Письменный. Он вроде бы упоминал это.
Гуров поблагодарил как будто оттаявшего секретаря и откланялся.
Итак, в клубке интересов, туго сплетенном вокруг покойного, появилась еще одна нить - условно говоря, "бельгийская". Но что раздражало Гурова, нить эта опять вела в заоблачные выси, куда путь Гурову был заказан, то есть по сути - в никуда. Ладно бы - как в копеечной сыщицкой литературе, заполонившей в последние годы Санкт-Петербург: убийство из-за наследства совершил дворецкий, оказавшийся внебрачным сыном покойного. А тут ни тебе внебрачных детей, ни наследства. И даже было ли убийство как таковое - до сих пор доподлинно неизвестно. Одни только догадки и черт знает куда ведущие нити.
Гуров размышлял об этом, спускаясь по лестнице особняка, когда его окликнули:
- Господин надзиратель из Санкт-Петербурга!
Христина Алчевская - младшая стояла в дверном проеме, зажав в губах мундштук с дымящейся папиросой.
- Вы все еще не хотите меня допросить?
- Отчего же сразу допросить? Поговорить - это, конечно, можно. Вам есть что сообщить?
Алчевская вошла в пустой зал и закрыла за собой дверь.
- Мне, конечно, есть что сообщить. Вот, например, господин Городецкий, с которым вы только что общались, давно и безнадежно влюблен в Анну. Вы ведь не знали, признайтесь? - спросила она, как будто торжествуя.
Гуров вспомнил роковую женщину Любарскую-Письменную и подумал о том, что местные барышни, похоже, сговорились снабжать его сведениями, подчеркивая его, Гурова, неосведомленность. Правда, в отличие от сведений, полученных от жены банкира, он не имел понятия, что делать со знанием о душевных привязанностях секретаря.
- И что из этого? - спросил он, готовясь выслушать историю в стиле пинкертоновского романа.
История не заставила себя ждать.
- Ну как же! Секретарь папы, будучи влюбленным в Анну, убивает папу, который стоит на пути его счастья.
- А супруг Анны, господин Бекетов, на пути его счастья не стоит? - стараясь быть серьезным, спросил Гуров.
- Вот-вот! Я думаю, ему угрожает опасность!
Гуров уже не понимал, шутит Алчевская-младшая или говорит это все всерьез. Но она улыбнулась, и сомнения рассеялись.
- Насчет влюбленности господина Городецкого тоже шутить изволите? - спросил он.
- Нет. Кто ж такими вещами шутит? - ответила Алчевская, задумчиво рассматривая тлеющую папиросу.
- Почему вы так решили?
- Не знаю. Взгляды, поведение. А может быть, женщины такие вещи чувствуют...
- А ведь вы не любите Антонина Людвиговича. Почему?
- Да может быть поэтому и не люблю. Анна с Алексеем Николаевичем - чудная пара. Зачем это все? Да и вообще - какой-то он... Все время напряженный, скучный... В нашем доме это странно. Лишне как-то. Впрочем, папа его, видимо, очень ценил. Хотя и подтрунивал над ним часто.
- Сильно подтрунивал? - спросил Гуров, понимая, что как мотив это, конечно, явно не то.
- Прекратите, - видимо, подумав о том же, ответила Христина. - Просто у нас тут всегда было весело или, по крайней мере, интересно. А он бродил тихий, как мышь, и всегда ловко выкручивался, когда папа или мама пытались втянуть его в общий разговор. Вот отец и шутил по этому поводу постоянно...
При этом упоминании об отце дочь совсем погрустнела, и Гуров понял, что надо откланиваться.
- Вы уж простите великодушно, Антонин Людвигович, что вас беспокою, однако кое-какие обстоятельства все же нуждаются в уточнении. А кто может сделать это лучше, чем вы? Кто еще был столь близок к покойному в финансовых делах? Так вот, есть одна ситуация, которую неплохо было бы прояснить. Мне недавно стало известно, причем совершенно случайно, что визиту Алексея Кирилловича в Санкт-Петербург предшествовала отправка почтой неких документов, обосновывающих его просьбу. Вам об этом что-то известно?
Городецкий опустил голову и несколько секунд рассматривал свой идеально чистый стол.
- Да, были такие документы, - ответил он, выдохнув, будто на что-то решившись. - Но я к их подготовке отношения не имел. Что в них было - вам лучше поинтересоваться у банкиров. Я в этих делах не очень сведущ, потому что занимался исключительно личными и семейными финансами господина Алчевского. Поэтому к работе над этими документами не привлекался. Что они готовились - знаю. Но больше, увы, сообщить ничего не смогу.
- Кто их отправлял?
- Не знаю. Может быть - лично Алексей Кириллович, может быть - кто-то из банка. Вам бы лучше обратиться к Любарскому-Письменному с этими вопросами.
Гуров понял, что пришел зря, и решил выяснить хоть что-то - в конце концов, Городецкий наверняка знал многое. Но сложилась крайне неприятная для Гурова ситуация, когда подступиться к источнику знаний было решительно не с чем. Никакого внятного вопроса, которым, как удочкой, можно было бы вытянуть что-то полезное, в голове не рождалось. Поэтому Гуров решил просто поинтересоваться мнением Городецкого.
- Но о сути предложений вы наверняка были осведомлены. Что вы сами об этом думаете? Были шансы на успех у этого предприятия?
Городецкий, против ожидания, не стал замыкаться и прятаться за неосведомленность.
- Нет. Не было никаких шансов. Я до сих пор не понимаю, что давало Алексею Кирилловичу основания думать иначе. Если хотите знать мое мнение - надо было предложение бельгийцев принимать.
- Какое предложение? - быстро спросил Гуров, поняв, что невод общего вопроса, похоже, выудит-таки что-то дельное.
- История это общеизвестная. Около полугода назад, когда дела уже были плохи, бельгийские коммерсанты предложили Алчевскому продать все его пятисотрублевые акции в Алексеевском горнопромышленном обществе по две тысячи рублей. Выручка бы составила 20 миллионов рублей. Это с лихвой покрыло бы все долги.
- И почему же Алексей Кириллович на согласился?
- Только Бог знает почему. Он тогда сказал длинную речь в том смысле, что негоже его детям жить с капитала, и вообще такое важное дело не должно быть за иностранцами. Хотя до этого с иностранцами он дела вел весьма успешно и неоднократно высказывался о том, что иностранный капитал приносит в Россию нужные империи новые знания в горном и финансовом деле. В общем, никаких патриотических взглядов до того он не выказывал.
- А дети? Может быть, он действительно хотел оставить дело сыновьям? - спросил Гуров, который знал, что, кроме дочерей, у Алчевского осталось четыре сына, которые все были в отъезде, поэтому с ними он так и не познакомился.
- А что дети? К делам интерес проявлял только Дмитрий, да и то - весьма поверхностно, скорее, по причине отсутствия других талантов. Остальные три сына пошли по культурной, так сказать, линии. Пение да театр – вот все, что их интересует. К тому же риск полного банкротства был слишком велик. Так что Алексей Кириллович имел реальный шанс оставить детям не дело, а долги. Что, к слову сказать, и произошло. Дела очень плохи. Очень. Возможно - придется продать даже этот дом.
Гуров, пользуясь случаем, решил попросить помощи у секретаря. Во-первых, потому, что, как он знал, ничто так не располагает человека, как возможность почувствовать себя благодетелем или, по крайней мере, оказавшим услугу. А расположение столь осведомленного человека Гурову могло пригодиться, несмотря на некоторые подозрения в его отношении. А во-вторых, небольшая помощь действительно была нужна.
- Окажите помощь, Антонин Людвигович, - начал он, доставая из кармана приглашение. - Мне вот что принесли в гостиницу. А я не знаю, стоит ли откликаться? Кто такая эта самая Харина?
- О! Это очень интересная женщина, - Городецкий впервые за время знакомства с Гуровым широко улыбнулся, и тот подумал, что секретарь, встреться они при других обстоятельствах, вполне мог показаться человеком приятным. - Вдова одного крупного местного купца, у которой обычно собирается хорошее общество. Не дворянство, нет: эта публика предпочитает владения своего предводителя или губернатора, - усмехнулся Городецкий. - У Хариной обычно бывают коммерсанты, врачи, чиновники... В общем - люди при деле. А также художники, поэты и прочая крайне интересная публика. В общем - сходите, не пожалеете. К тому же там, кажется, обещал сегодня быть Любарский-Письменный. Он вроде бы упоминал это.
Гуров поблагодарил как будто оттаявшего секретаря и откланялся.
Итак, в клубке интересов, туго сплетенном вокруг покойного, появилась еще одна нить - условно говоря, "бельгийская". Но что раздражало Гурова, нить эта опять вела в заоблачные выси, куда путь Гурову был заказан, то есть по сути - в никуда. Ладно бы - как в копеечной сыщицкой литературе, заполонившей в последние годы Санкт-Петербург: убийство из-за наследства совершил дворецкий, оказавшийся внебрачным сыном покойного. А тут ни тебе внебрачных детей, ни наследства. И даже было ли убийство как таковое - до сих пор доподлинно неизвестно. Одни только догадки и черт знает куда ведущие нити.
Гуров размышлял об этом, спускаясь по лестнице особняка, когда его окликнули:
- Господин надзиратель из Санкт-Петербурга!
Христина Алчевская - младшая стояла в дверном проеме, зажав в губах мундштук с дымящейся папиросой.
- Вы все еще не хотите меня допросить?
- Отчего же сразу допросить? Поговорить - это, конечно, можно. Вам есть что сообщить?
Алчевская вошла в пустой зал и закрыла за собой дверь.
- Мне, конечно, есть что сообщить. Вот, например, господин Городецкий, с которым вы только что общались, давно и безнадежно влюблен в Анну. Вы ведь не знали, признайтесь? - спросила она, как будто торжествуя.
Гуров вспомнил роковую женщину Любарскую-Письменную и подумал о том, что местные барышни, похоже, сговорились снабжать его сведениями, подчеркивая его, Гурова, неосведомленность. Правда, в отличие от сведений, полученных от жены банкира, он не имел понятия, что делать со знанием о душевных привязанностях секретаря.
- И что из этого? - спросил он, готовясь выслушать историю в стиле пинкертоновского романа.
История не заставила себя ждать.
- Ну как же! Секретарь папы, будучи влюбленным в Анну, убивает папу, который стоит на пути его счастья.
- А супруг Анны, господин Бекетов, на пути его счастья не стоит? - стараясь быть серьезным, спросил Гуров.
- Вот-вот! Я думаю, ему угрожает опасность!
Гуров уже не понимал, шутит Алчевская-младшая или говорит это все всерьез. Но она улыбнулась, и сомнения рассеялись.
- Насчет влюбленности господина Городецкого тоже шутить изволите? - спросил он.
- Нет. Кто ж такими вещами шутит? - ответила Алчевская, задумчиво рассматривая тлеющую папиросу.
- Почему вы так решили?
- Не знаю. Взгляды, поведение. А может быть, женщины такие вещи чувствуют...
- А ведь вы не любите Антонина Людвиговича. Почему?
- Да может быть поэтому и не люблю. Анна с Алексеем Николаевичем - чудная пара. Зачем это все? Да и вообще - какой-то он... Все время напряженный, скучный... В нашем доме это странно. Лишне как-то. Впрочем, папа его, видимо, очень ценил. Хотя и подтрунивал над ним часто.
- Сильно подтрунивал? - спросил Гуров, понимая, что как мотив это, конечно, явно не то.
- Прекратите, - видимо, подумав о том же, ответила Христина. - Просто у нас тут всегда было весело или, по крайней мере, интересно. А он бродил тихий, как мышь, и всегда ловко выкручивался, когда папа или мама пытались втянуть его в общий разговор. Вот отец и шутил по этому поводу постоянно...
При этом упоминании об отце дочь совсем погрустнела, и Гуров понял, что надо откланиваться.
Вечером он стоял перед особняком купчихи Хариной, в очередной раз пораженный харьковским строением. Правда, причина этого была другого свойства: более нелепого сооружения Гуров не встречал. Огромный дом силился быть готическим замком, который странным сорняком вырос среди низкорослых убогих домиков переулка и как будто впитал из почвы невыносимую тоску и провинциальность. Видимо, хозяину не повезло с зятем так, как повезло Алчевскому, зато повезло с деньгами, потому что эта нелепость, по размеру не уступающая дому покойного промышленника, явно стоила немалых средств.
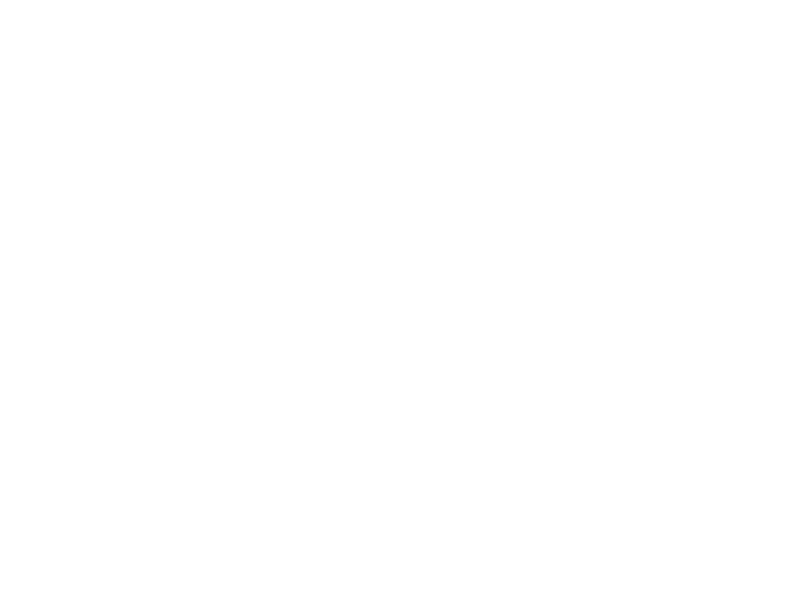
Особняк Хариной
Дверь Гурову открыл слуга, и Гуров на мгновение замер, узнав в пожилом мужчине того, кого обычно опознавал безошибочно, даже в плотной санкт-петербургской толпе. Как у него это получалось, Гуров затруднился бы сказать, но он никогда не ошибался и сейчас тоже был уверен, что перед ним - бывший каторжанин. Слуга, видимо, тоже по причине определенного жизненного опыта опознавший в Гурове полицейского, замер на мгновение, но тут же почтительно поклонился и проводил его в зал.
Интерьер полностью повторял фасад в части вкуса и меры – стены и потолок были расписаны какими-то лубочными орнаментами, а странная, явно лишняя лепка, стыдливо пыталась скрыть это безобразие.
- Не обращайте внимания. Мой покойный супруг имел весьма своеобразный вкус, но я не стала ничего менять из уважения к его памяти. Теперь это стало особой чертой этого места. Да и гостям есть что обсудить, когда темы для разговоров заканчиваются. Если хотите поиронизировать – не отказывайте себе в удовольствии. Я привыкла.
Женщина лет сорока пяти, быстро проговорившая это сочным, завораживающим голосом, взяла Гурова под локоть и повела в центр зала.
- Александра Гавриловна, – представилась она и с ходу стала рекомендовать гостям Гурова как давнего друга и представлять ему гостей, которых было человек 15. Гуров слегка опешил от такого оборота и, конечно, быстро потерялся в Петрах Парамоновичах и Александрах Яковлевичах, должностях и поприщах, на которых трудились гости, среди которых не оказалось ни одной женщины. Мужчины же действительно были преимущественно купеческого сословия, дорого одетые и бородатые.
Хозяйка была уже не молода, но очень красива. Годы были не то чтобы не властны над ней - просто проявили свою власть особым образом. Легкие морщины лишь подчеркнули греческий профиль и великолепную лепку слегка пухлых губ. Ее тонкая фигура особенно контрастировала с животами купцов, затянутыми в жилетки и украшенными золотыми цепочками от часов.
Гости открыто рассматривали Гурова, как будто прицениваясь – сколько стоит залетная столичная птица? А если оптом брать по десятку? А если частями – за пуд живого веса? К таким оценивающим взглядам людей, привыкших покупать и продавать, Гуров давно привык, потому что сталкивался с ними по службе, и ничуть не стушевался. Он быстро нашел взглядом столик с коньяком и рюмками и направился туда. На этом же столике лежала коробка весьма неплохих кубинских сигар "Кабанас". Вечер обещал быть приятным. Правда, Любарского-Письменного среди гостей не было, но Гуров этим фактом не особо расстроился. Он знал, что солидные мужчины любят посплетничать не меньше, чем прачки, тем более - перемыть кости птице куда более высокого полета, чем они сами. Так что о деятельности покойного можно было выяснить много интересного.
- Федор Иванович, какими судьбами! – Гуров обернулся и увидел Реуцкого, после чего вечер показался Гурову совершенно удавшимся.
- Мы ведь газеты читаем и не могли пропустить визит такого гостя, – ответила Харина, протягивая Реуцкому руку для поцелуя, который, как сразу отметил про себя Гуров, вел себя с хозяйкой так, словно они были давно и близко знакомы. Купчиха тоже очевидно выделяла тайного советника среди остальных гостей.
Реуцкий быстро завладел вниманием собравшихся, живописуя их побег от здания Земельного банка. При этом он явно приукрашивал события: толпа обычных мещан стала чуть ли не татарской ордой, а их в сущности банальный побег - результатом исключительной сообразительности и ловкости. Гости одобрительно кивали бородами, отхлебывали коньяк и пыхтели сигарами.
Когда Гурову удалось увести Реуцкого от гостей, он хотел было расспросить о предложении бельгийцев, но тот опередил его.
- Ну, рассказывайте, как проходит расследование, что нового?
Гурову пришлось рассказать о том, что удалось узнать. Он лишь не упомянул лишь своих подозрений в отношении секретаря, заметив лишь, что человек это "весьма странный, если не сказать - подозрительный". На это Реуцкий отмахнулся:
- Да знаю я его. Канцелярская крыса, серая и невзрачная. Впрочем, человек, кажется, не глупый. Но на серьезный поступок не способный.
А вот вопрос про бельгийцев Реуцкого заинтересовал:
- Да, было дело. Я думаю, ответ на вопрос, почему Алчевский им отказал, вы знаете. Сделка с обменом дела на облигации на тот момент уже готовилась.
- Но предложение бельгийцев было более выгодным. Разве не так? – спросил Гуров.
Реуцкий задумался.
- Конечно, патриотизм тут не при чем. Вы встречали когда-нибудь патриотичный денежный мешок? Вот и я не встречал. А объяснений может быть несколько. Во-первых, об этом предложении мы знаем со слов покойного, а он мог умолчать о каких-то дополнительных неприемлемых условиях, которые выдвинули бельгийцы… А во-вторых, что более вероятно, люди, стоявшие за сделкой с облигациями, вряд ли благосклонно отнеслись бы к такому финту покойного. Там, – Реуцкий кивнул вверх, – шутить не любят, и последствия такого шага могли быть самые драматичные.
- И так неплохо получилось, – заметил Гуров и добавил задумчиво: - Да и сделка не состоялась…
- Ну о причинах, вернее, об их недосягаемости мы уже говорили, – напомнил Реуцкий. - А вот версия с бельгийцами мне кажется очень интересной.
- Месть за неслучившуюся сделку? – спросил Гуров скептически.
- Не знаю, – ответил Реуцкий. – Подумать надо.
Вечер закончился в общем-то безрезультатно: харьковские купцы ничего существенного не сообщили. Зато оживленно обсуждалось возможное возобновление скачек на местном ипподроме, появление электрического трамвая и городские сплетни, к Алчевскому отношения не имевшие.
Реуцкий вызвался проводить Гурова до Павловской площади, где можно было взять извозчика. Сыщики вышли из тупикового переулка и, свернув направо, стали спускаться по очень крутой и короткой улице, упиравшейся в Клочковскую.
Реуцкий продолжал развивать "бельгийскую" версию, в которую Гуров по-прежнему не верил. Зато узнал много нового. Например, то, что коммерсанты маленького Бельгийского королевства контролировали две трети южнорусской металлургической промышленности. В самой Бельгии этот регион империи, ничуть не смущаясь, называли "десятой провинцией королевства". Похоже, бельгийцы были действительно серьезными людьми, но к делу Алчевского не клеились никак. Реуцкий же продолжал гнуть свое, заявив, что бельгийцы вообще сплошь масоны, а публика это опасная… Все эти рассуждения уже порядочно надоели Гурову. Он списал их на количество выпитого коньяка и ускорил шаг, чтобы наконец-то усадить неумолкающего Реуцкого в пролетку.
В этот момент откуда-то сзади послышался крик "Берегись!" - и тут же раздался выстрел. Реуцкий с окровавленным лицом начал оседать, привалившись к забору. Гуров упал, увлекая его за собой. Через несколько секунд прозвучал второй выстрел.
Интерьер полностью повторял фасад в части вкуса и меры – стены и потолок были расписаны какими-то лубочными орнаментами, а странная, явно лишняя лепка, стыдливо пыталась скрыть это безобразие.
- Не обращайте внимания. Мой покойный супруг имел весьма своеобразный вкус, но я не стала ничего менять из уважения к его памяти. Теперь это стало особой чертой этого места. Да и гостям есть что обсудить, когда темы для разговоров заканчиваются. Если хотите поиронизировать – не отказывайте себе в удовольствии. Я привыкла.
Женщина лет сорока пяти, быстро проговорившая это сочным, завораживающим голосом, взяла Гурова под локоть и повела в центр зала.
- Александра Гавриловна, – представилась она и с ходу стала рекомендовать гостям Гурова как давнего друга и представлять ему гостей, которых было человек 15. Гуров слегка опешил от такого оборота и, конечно, быстро потерялся в Петрах Парамоновичах и Александрах Яковлевичах, должностях и поприщах, на которых трудились гости, среди которых не оказалось ни одной женщины. Мужчины же действительно были преимущественно купеческого сословия, дорого одетые и бородатые.
Хозяйка была уже не молода, но очень красива. Годы были не то чтобы не властны над ней - просто проявили свою власть особым образом. Легкие морщины лишь подчеркнули греческий профиль и великолепную лепку слегка пухлых губ. Ее тонкая фигура особенно контрастировала с животами купцов, затянутыми в жилетки и украшенными золотыми цепочками от часов.
Гости открыто рассматривали Гурова, как будто прицениваясь – сколько стоит залетная столичная птица? А если оптом брать по десятку? А если частями – за пуд живого веса? К таким оценивающим взглядам людей, привыкших покупать и продавать, Гуров давно привык, потому что сталкивался с ними по службе, и ничуть не стушевался. Он быстро нашел взглядом столик с коньяком и рюмками и направился туда. На этом же столике лежала коробка весьма неплохих кубинских сигар "Кабанас". Вечер обещал быть приятным. Правда, Любарского-Письменного среди гостей не было, но Гуров этим фактом не особо расстроился. Он знал, что солидные мужчины любят посплетничать не меньше, чем прачки, тем более - перемыть кости птице куда более высокого полета, чем они сами. Так что о деятельности покойного можно было выяснить много интересного.
- Федор Иванович, какими судьбами! – Гуров обернулся и увидел Реуцкого, после чего вечер показался Гурову совершенно удавшимся.
- Мы ведь газеты читаем и не могли пропустить визит такого гостя, – ответила Харина, протягивая Реуцкому руку для поцелуя, который, как сразу отметил про себя Гуров, вел себя с хозяйкой так, словно они были давно и близко знакомы. Купчиха тоже очевидно выделяла тайного советника среди остальных гостей.
Реуцкий быстро завладел вниманием собравшихся, живописуя их побег от здания Земельного банка. При этом он явно приукрашивал события: толпа обычных мещан стала чуть ли не татарской ордой, а их в сущности банальный побег - результатом исключительной сообразительности и ловкости. Гости одобрительно кивали бородами, отхлебывали коньяк и пыхтели сигарами.
Когда Гурову удалось увести Реуцкого от гостей, он хотел было расспросить о предложении бельгийцев, но тот опередил его.
- Ну, рассказывайте, как проходит расследование, что нового?
Гурову пришлось рассказать о том, что удалось узнать. Он лишь не упомянул лишь своих подозрений в отношении секретаря, заметив лишь, что человек это "весьма странный, если не сказать - подозрительный". На это Реуцкий отмахнулся:
- Да знаю я его. Канцелярская крыса, серая и невзрачная. Впрочем, человек, кажется, не глупый. Но на серьезный поступок не способный.
А вот вопрос про бельгийцев Реуцкого заинтересовал:
- Да, было дело. Я думаю, ответ на вопрос, почему Алчевский им отказал, вы знаете. Сделка с обменом дела на облигации на тот момент уже готовилась.
- Но предложение бельгийцев было более выгодным. Разве не так? – спросил Гуров.
Реуцкий задумался.
- Конечно, патриотизм тут не при чем. Вы встречали когда-нибудь патриотичный денежный мешок? Вот и я не встречал. А объяснений может быть несколько. Во-первых, об этом предложении мы знаем со слов покойного, а он мог умолчать о каких-то дополнительных неприемлемых условиях, которые выдвинули бельгийцы… А во-вторых, что более вероятно, люди, стоявшие за сделкой с облигациями, вряд ли благосклонно отнеслись бы к такому финту покойного. Там, – Реуцкий кивнул вверх, – шутить не любят, и последствия такого шага могли быть самые драматичные.
- И так неплохо получилось, – заметил Гуров и добавил задумчиво: - Да и сделка не состоялась…
- Ну о причинах, вернее, об их недосягаемости мы уже говорили, – напомнил Реуцкий. - А вот версия с бельгийцами мне кажется очень интересной.
- Месть за неслучившуюся сделку? – спросил Гуров скептически.
- Не знаю, – ответил Реуцкий. – Подумать надо.
Вечер закончился в общем-то безрезультатно: харьковские купцы ничего существенного не сообщили. Зато оживленно обсуждалось возможное возобновление скачек на местном ипподроме, появление электрического трамвая и городские сплетни, к Алчевскому отношения не имевшие.
Реуцкий вызвался проводить Гурова до Павловской площади, где можно было взять извозчика. Сыщики вышли из тупикового переулка и, свернув направо, стали спускаться по очень крутой и короткой улице, упиравшейся в Клочковскую.
Реуцкий продолжал развивать "бельгийскую" версию, в которую Гуров по-прежнему не верил. Зато узнал много нового. Например, то, что коммерсанты маленького Бельгийского королевства контролировали две трети южнорусской металлургической промышленности. В самой Бельгии этот регион империи, ничуть не смущаясь, называли "десятой провинцией королевства". Похоже, бельгийцы были действительно серьезными людьми, но к делу Алчевского не клеились никак. Реуцкий же продолжал гнуть свое, заявив, что бельгийцы вообще сплошь масоны, а публика это опасная… Все эти рассуждения уже порядочно надоели Гурову. Он списал их на количество выпитого коньяка и ускорил шаг, чтобы наконец-то усадить неумолкающего Реуцкого в пролетку.
В этот момент откуда-то сзади послышался крик "Берегись!" - и тут же раздался выстрел. Реуцкий с окровавленным лицом начал оседать, привалившись к забору. Гуров упал, увлекая его за собой. Через несколько секунд прозвучал второй выстрел.
Вторая пуля выбила щепки забора в том месте, где только что сползал Реуцкий. Но благодаря Гурову он уже лежал на земле и стонал. "Жив", - с облегчением подумал Гуров и занялся вопросом более насущным – как выжить. Лежа, он передернул затвор браунинга, перевернулся на живот, вскинул руку с пистолетом и посмотрел наверх. Увиденное его обрадовало - насколько что-то может обрадовать в такой ситуации. Не ускорь он шаг за несколько секунд до первого выстрела, они были бы на участке улицы, который простреливался сверху. Но они успели пройти место, за которым спуск делался очень резким, поэтому стрелявший не мог их видеть. Теперь, реши он за ними последовать, тут же был бы встречен пулей Гурова: он прекрасно видел контур бугра, который образовывала спускавшаяся вниз мостовая. Гуров стал ждать.
Человек, топот которого послышался через мгновение, оценил ситуацию аналогичным образом: судя по звукам шагов, он замедлил движение и закричал: "То я, господин надзиратель, не стреляйте!" Голос был тот же, что кричал "Берегись", и хотя "то я" мало о чем говорило, Гуров уже знал, кого увидит.
Детина-соглядатай осторожно выглядывал из-за бугра. Для стоявшего в верхней части улицы он был идеальной мишенью, и Гуров закричал:
- Ложись, дурак! Ложись!
Но детина лишь обернулся, посмотрел в начало улицы и, еще раз убедившись, что она пуста, ответил:
- Збіжав він.
Гуров быстро сообразил, что стрелявший наверняка нырнул в один из дворов или переулков Рымарской, идущей параллельно Сумской, и уже затерялся там среди гуляющей публики, которой даже в этот поздний час было изрядно. Гнаться за ним - бессмысленно. Да и Реуцкого оставлять было нельзя. Тот, продолжая стонать и неловко опираясь на ослабевшие руки, даже умудрился сесть. Гуров осмотрел рану, насколько это было возможно в скудном свете газового фонаря. Пуля задела голову тайного советника, оставив на виске глубокую царапину, но, похоже, серьезных повреждений не нанесла. Тем не менее, раненому надо было оказать срочную помощь. Ближайшее место, где можно ее получить, - дом, откуда они только что вышли.
Гуров решил, что опасность еще может подстерегать их, и, пригнувшись, перебежал на другую сторону. Аккуратно выглянув, он осмотрел верх улицы. Она была пуста. Лишь по идущей перпендикулярно Рымарской промчал извозчик. Он обернулся к соглядатаю, который, стоя на коленях, заботливо поддерживал обмякшего Реуцкого, и скомандовал:
- Бери его на руки - и за мной.
Гуров мысленно поблагодарил Бога, что тот послал ему столь физически сильного помощника, и тут же подумал, что не только промысел божий тут замешан. Но с этим можно было разобраться позже. Сейчас нужно устроить раненного.
Гуров шел по параллельной стороне улицы с браунингом наперевес, всматриваясь в темные складки, образованные заборами и парадными. Неожиданный помощник тащил совсем обмякшего, но находящегося в сознании Реуцкого. Тот что-то шептал, судя по интонации, ругаясь последними словами.
Харина в очередной раз поразила Гурова. Никаких дамских охов и ахов, никаких вопросов.
- Гвоздь, помоги, - коротко скомандовала купчиха слуге-каторжнику.
То, что она обратилась к нему по явно блатному прозвищу, тоже было, мягко говоря, нетипично, и Гуров пришел к окончательному заключению: дама эта - очень не простая.
Реуцкий даже в этой ситуации попытался быть галантным. Подняв затуманенный взгляд на купчиху, он слабо улыбнулся и произнес: "Мадам..." - после чего поморщился от боли и повесил голову.
Слуга, будучи явно еще очень крепким стариком, помог отволочь Реуцкого на кушетку. Харина, рассматривая рану, выдавала инструкции.
- Гвоздь, бери извозчика на Сумской и гони на Садово-Куликовскую, к Тринклеру. Вези его сюда. Вы, - она обратилась к Гурову и его соглядатаю, - на кухню. Чистые полотенца и воды. Кухня здесь, - Харина кивнула на одну из дверей зала и через секунду добавила: - По коридору налево.
Гуров и его неожиданный помощник вышли в длинный коридор. Единственная дверь налево вела на крутую лестницу, спускавшуюся вниз, что показалось Гурову странным. Они спустились и оказались перед еще одной дверью, обитой железом, но она была заперта. На то, что здесь находится кухня, было очень не похоже. Вернувшись наверх, они вошли в противоположную дверь, за которой и находилась кухня. Входя в зал, Гуров заподозрил, что вдова не ошиблась, направив их в противоположную сторону – видимо, ей нужно было побыть с Реуцким наедине. Тот, приподнявшись и держась за локоть купчихи, что-то быстро ей говорил. Увидев Гурова, вошедшего в комнату, тайный советник замолчал и упал на подушки.
Вдова ловко перевязала голову раненого полотенцем, другим вытерла кровь и, соорудив из него же компресс, смоченный водой, приложила ко лбу.
Она по-прежнему не задала ни одного вопроса. Зато вопрос был у Гурова. Он спросил у своего соглядатая:
- Ты заметил того, кто стрелял?
- Нет, темно было, далэко.
- Но то, что он достал пистолет, ты все же рассмотрел?
- Да я за ним наблюдал, как вы из этого дома выйшлы. Я за вами, он за вами. Следил, гад. От я увагу и звернув.
- Но хоть что-то ты видел?
- Без бороды вроде, без картуза... Да ничого я толком не разглэдив.
- Не разглэдив... - повторил Гуров разочарованно. - Но все равно - спасибо. Зовут-то тебя как?
- Тихон.
Гуров подумал, что надо бы наконец узнать, откуда и зачем появился этот самый Тихон, но решил сделать это позже.
Вскоре появился доктор.
- Николай Петрович, как хорошо, что вы были дома! - воскликнула Харина, протягивая руку для поцелуя.
Человек, топот которого послышался через мгновение, оценил ситуацию аналогичным образом: судя по звукам шагов, он замедлил движение и закричал: "То я, господин надзиратель, не стреляйте!" Голос был тот же, что кричал "Берегись", и хотя "то я" мало о чем говорило, Гуров уже знал, кого увидит.
Детина-соглядатай осторожно выглядывал из-за бугра. Для стоявшего в верхней части улицы он был идеальной мишенью, и Гуров закричал:
- Ложись, дурак! Ложись!
Но детина лишь обернулся, посмотрел в начало улицы и, еще раз убедившись, что она пуста, ответил:
- Збіжав він.
Гуров быстро сообразил, что стрелявший наверняка нырнул в один из дворов или переулков Рымарской, идущей параллельно Сумской, и уже затерялся там среди гуляющей публики, которой даже в этот поздний час было изрядно. Гнаться за ним - бессмысленно. Да и Реуцкого оставлять было нельзя. Тот, продолжая стонать и неловко опираясь на ослабевшие руки, даже умудрился сесть. Гуров осмотрел рану, насколько это было возможно в скудном свете газового фонаря. Пуля задела голову тайного советника, оставив на виске глубокую царапину, но, похоже, серьезных повреждений не нанесла. Тем не менее, раненому надо было оказать срочную помощь. Ближайшее место, где можно ее получить, - дом, откуда они только что вышли.
Гуров решил, что опасность еще может подстерегать их, и, пригнувшись, перебежал на другую сторону. Аккуратно выглянув, он осмотрел верх улицы. Она была пуста. Лишь по идущей перпендикулярно Рымарской промчал извозчик. Он обернулся к соглядатаю, который, стоя на коленях, заботливо поддерживал обмякшего Реуцкого, и скомандовал:
- Бери его на руки - и за мной.
Гуров мысленно поблагодарил Бога, что тот послал ему столь физически сильного помощника, и тут же подумал, что не только промысел божий тут замешан. Но с этим можно было разобраться позже. Сейчас нужно устроить раненного.
Гуров шел по параллельной стороне улицы с браунингом наперевес, всматриваясь в темные складки, образованные заборами и парадными. Неожиданный помощник тащил совсем обмякшего, но находящегося в сознании Реуцкого. Тот что-то шептал, судя по интонации, ругаясь последними словами.
Харина в очередной раз поразила Гурова. Никаких дамских охов и ахов, никаких вопросов.
- Гвоздь, помоги, - коротко скомандовала купчиха слуге-каторжнику.
То, что она обратилась к нему по явно блатному прозвищу, тоже было, мягко говоря, нетипично, и Гуров пришел к окончательному заключению: дама эта - очень не простая.
Реуцкий даже в этой ситуации попытался быть галантным. Подняв затуманенный взгляд на купчиху, он слабо улыбнулся и произнес: "Мадам..." - после чего поморщился от боли и повесил голову.
Слуга, будучи явно еще очень крепким стариком, помог отволочь Реуцкого на кушетку. Харина, рассматривая рану, выдавала инструкции.
- Гвоздь, бери извозчика на Сумской и гони на Садово-Куликовскую, к Тринклеру. Вези его сюда. Вы, - она обратилась к Гурову и его соглядатаю, - на кухню. Чистые полотенца и воды. Кухня здесь, - Харина кивнула на одну из дверей зала и через секунду добавила: - По коридору налево.
Гуров и его неожиданный помощник вышли в длинный коридор. Единственная дверь налево вела на крутую лестницу, спускавшуюся вниз, что показалось Гурову странным. Они спустились и оказались перед еще одной дверью, обитой железом, но она была заперта. На то, что здесь находится кухня, было очень не похоже. Вернувшись наверх, они вошли в противоположную дверь, за которой и находилась кухня. Входя в зал, Гуров заподозрил, что вдова не ошиблась, направив их в противоположную сторону – видимо, ей нужно было побыть с Реуцким наедине. Тот, приподнявшись и держась за локоть купчихи, что-то быстро ей говорил. Увидев Гурова, вошедшего в комнату, тайный советник замолчал и упал на подушки.
Вдова ловко перевязала голову раненого полотенцем, другим вытерла кровь и, соорудив из него же компресс, смоченный водой, приложила ко лбу.
Она по-прежнему не задала ни одного вопроса. Зато вопрос был у Гурова. Он спросил у своего соглядатая:
- Ты заметил того, кто стрелял?
- Нет, темно было, далэко.
- Но то, что он достал пистолет, ты все же рассмотрел?
- Да я за ним наблюдал, как вы из этого дома выйшлы. Я за вами, он за вами. Следил, гад. От я увагу и звернув.
- Но хоть что-то ты видел?
- Без бороды вроде, без картуза... Да ничого я толком не разглэдив.
- Не разглэдив... - повторил Гуров разочарованно. - Но все равно - спасибо. Зовут-то тебя как?
- Тихон.
Гуров подумал, что надо бы наконец узнать, откуда и зачем появился этот самый Тихон, но решил сделать это позже.
Вскоре появился доктор.
- Николай Петрович, как хорошо, что вы были дома! - воскликнула Харина, протягивая руку для поцелуя.
Похоже, доктор Тринклер был тут частым гостем, решил Гуров. Тем более, он был очень похож на типичных посетителей дома Хариной - прическа на прямой пробор, аккуратная бородка, дорогой костюм и золотая цепочка... Типичный успешный купец, если бы не докторский саквояж и очки в золотой оправе.
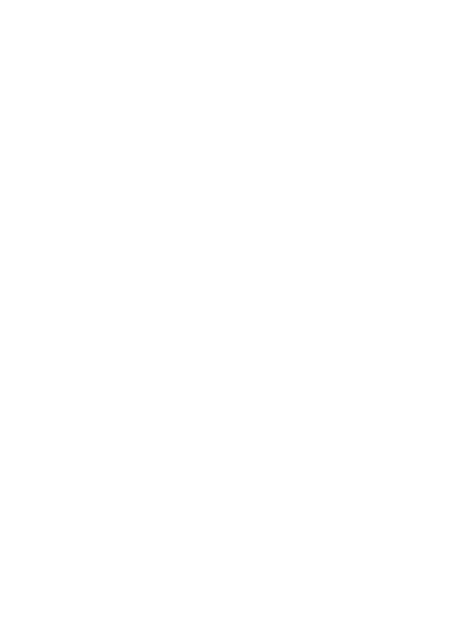
Николай Тринклер
Доктор тем временем осматривал рану Реуцкого.
- Как же вас так, голубчик, угораздило?
- О мостовую, профессор, поскользнулся, - Реуцкий, уже окончательно пришедший в себя, улыбнулся, как будто призывая доктора посмеяться над нелепостью ситуации.
Но Тринклер оставался серьезным.
- Мостовая, судя по ране, была свинцовой, раскаленной и неслась с огромной скоростью. Вам, уважаемый, очень повезло, что эта самая мостовая не отклонилась на сантиметр правее.
Доктор обернулся к Хариной:
- Кто был с ним?
- Федор Иванович Гуров, позвольте представить. Полицейский надзиратель из Санкт-Петербурга.
- Мостовые атакуют людей в присутствии полицейских надзирателей. Ну надо же, - улыбнулся таки Тринклер, но тут же посерьезнел. - Он сознание терял? Бред? Рвота?
- Кажется, нет - ответил Гуров.
- Хорошо, - заключил доктор. - Шить тут нечего, да и след от шва останется... Рану я сейчас обработаю и перевяжу. Но сотрясение мозга имеет место быть. Поэтому пить порошок, который я оставлю, и лежать. Два-три дня.
- А коньяк? - спросил Реуцкий с надеждой.
- Ни в коем случае. Спиртное, табак - забудьте. Про постельный режим говорить не буду, ибо подозреваю, что без толку, но по крайней мере - меньше двигайтесь. Вы, конечно, можете станцевать польку с рюмкой коньяка в одной руке и сигарой – в другой , но я бы не рекомендовал, если вы, конечно, не хотите мучиться всю жизнь головными болями.
- Вот спасибо, профессор, - грустно ответил Реуцкий.
- Я не профессор, а приват-доцент. Но вряд ли профессор посоветовал бы вам что-то другое.
Когда Тринклер уходил, Харина, не забывая о светских обязанностях, улыбаясь, сказала:
- Зайдете на следующей неделе, Николай Петрович?
- Увы, нет, Александра Гавриловна, уезжаю в Берлин на хирургический конгресс. Но по приезду – обязательно, - ответил Тринклер и галантно поцеловал руку хозяйке.
"Приват-доценты, разъезжающие по европейским конгрессам. Все-таки Харьков - не такая уж провинция", - подумал Гуров и решил, что коль Реуцкий в теперь в надежных руках, пора бы откланиваться.
Пожимая Гурову руку, Реуцкий сказал:
- Спасибо вам, Федор Иванович, вы мне сегодня жизнь спасли. Я не знаю, что еще сейчас сказать или сделать, поэтому только спасибо. И вот еще что... - Гуров уже понял, что Реуцкий скажет то, что самому Гурову пришло в голову сразу, но как следует обдумать это он еще не успел, да и думать об этом не хотелось. - Целью ведь могли быть вы. Темно было, расстояние большое... Мог убийца перепутать или просто промахнуться. Вам бы охрану... Не хочу вас так отпускать, - при этом он посмотрел на Харину, которая молча кивнула.
- Спасибо, охрана у меня есть, - Гуров улыбнулся и показал на Тихона.
- И тебе спасибо, голубчик, - сказал Реуцкий. - Ты сегодня целого тайного советника из-под обстрела можно сказать вытащил, - он рассмеялся было, но тут же поморщился от головной боли.
Попрощавшись с хозяйкой, Гуров с Тихоном вышли на улицу.
- Пойдем, Тихон, проводишь меня - сказал Гуров.
К Тихону, конечно, была масса вопросов, но Гуров слишком устал, поэтому шли молча. Прощаясь у гостиницы, Гуров, не будучи уверенным в том, появится ли Тихон здесь завтра, попросил его быть с утра. Такой помощник может пригодиться, решил Гуров, да и надо было расставить все точки над і в ситуации с Тихоном.
На следующее утро коридорный протянул Гурову телеграмму, которая, как и телеграмма об убийстве Голиафа, заставила Гурова еще и еще раз вчитываться в несколько слов.
В телеграмме говорилось: "Секретарь в Екатеринославе не был. Бумаги из министерства пропали. Без меня ничего не предпринимать. Филиппов".
Почему не предпринимать, ведь теперь очевидно, что Городецкого надо брать в оборот? Получается, он солгал про алиби. Почему пропали документы? Потому что в них было что-то, не предназначенное для посторонних глаз? Так значит - это все-таки след? И почему все же не предпринимать, ведь теперь надо было опросить всех, кто имел отношение к их составлению? И что значит "без меня"? Филиппов приедет лично?
Что еще поразило Гурова - так это скорость, с которой было проверено алиби секретаря и наличие бумаг в министерстве. Для неповоротливого полицейского механизма это было крайне необычно. Видимо, Филиппов в силу важности расследования нажал на какие-то неведомые рычаги.
После недолгого размышления Гуров решил нарушить указание начальника и все же посетить Городецкого. Он понял, что просто не сможет теперь усидеть на месте, ожидая неизвестно чего и неизвестно сколько.
Для предстоящей беседы ему очень пригодился бы Тихон, потому что вид у него был внушительный. К тому же, очень вероятно, предстояла беседа с убийцей, который, судя по вчерашнему вечернему приключению, был склонен к решительным действиям. Так что физическая помощь могла понадобиться. Гуров выглянул за окно и не заметил привычной фигуры. Он разочарованно вздохнул, но тут же заметил увальня, который несся по улице, не обращая внимания на крики задетых торговок.
Гуров спускался по лестнице, когда Тихон ворвался в гостиницу и, увидев Гурова, выпалил:
- Убит!
- Что?! Кто?! Реуцкий?!
Через десять минут Гуров с Тихоном, пробирались через толпу зевак, стоявшую в довольно глухом месте большого парка, начинающегося сразу за Рымарской и тянущегося вдоль Сумской.
- Полицейский надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Гуров Федор Иванович, - официально представился Гуров городовому.
Городовой, сдерживающий толпу зевак тычками мощных кулаков и смачной матерной руганью, кивнул на тело, лежащее на траве.
Ровно посередине лба единственного подозреваемого в расследовании, Антонина Людвиговича Городецкого, находилось аккуратное отверстие от пули. Секретарь лежал на траве, раскинув руки, и смотрел остекленевшими глазами на теплое весеннее небо.
Гурова интересовал один-единственный вопрос, который он задал второму полицейскому, топтавшемуся возле тела:
- Пистолет при нем нашли?
- Нашли, - ответил полицейский, удивленный такой осведомленностью заезжего столичного чина.
Следующий вопрос удивил полицейского еще больше:
- В магазине или барабане не хватало двух пуль?
- Да, - сказал совсем ошалевший от такой прозорливости полицейский.
Впрочем, он быстро взял себя в руки и начал подступаться к Гурову:
- А вы откуда, собственно...
- Ниоткуда, - резко прервал его Гуров и начал пробираться через толпу.
За следующие несколько минут Тихон существенно обогатил свой словарный запас отборным столичным матом с включением витиеватых литературных оборотов.
После этого Гуров замолчал и задумчиво посмотрел на Тихона. Что теперь делать, Гуров не знал, но возникшая утром заряженность на действия оставалась. Поэтому он решил за неимением лучшего плана действий разобраться-таки с Тихоном.
- Ну давай, веди меня.
- Куда? - спросил Тихон, до сих пор переваривающий словесный шквал Гурова.
- К тому, кто тебя послал. Идти недалеко, я так понимаю. Пошли.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий был очень стар и худ, но глаза его смотрели живо и даже весело.
- Благодарю вас, владыка, за помощь, за Тихона благодарю. И за семинаристов возле банка... - начал Гуров.
- Господа благодарите, уважаемый. Непрестанно, - прервал его владыка. - А мы, скромные слуги его, чего уж греха таить, и свои цели преследовали.
- Цели? - переспросил Гуров озадаченно.
- Пришло нам распоряжение из Синода - в ситуации этой разобраться, расследовать, так сказать. Потому что вопрос имелся с похоронами.
- Да, ведь он считался самоубийцей, - понял Гуров.
- Как же вас так, голубчик, угораздило?
- О мостовую, профессор, поскользнулся, - Реуцкий, уже окончательно пришедший в себя, улыбнулся, как будто призывая доктора посмеяться над нелепостью ситуации.
Но Тринклер оставался серьезным.
- Мостовая, судя по ране, была свинцовой, раскаленной и неслась с огромной скоростью. Вам, уважаемый, очень повезло, что эта самая мостовая не отклонилась на сантиметр правее.
Доктор обернулся к Хариной:
- Кто был с ним?
- Федор Иванович Гуров, позвольте представить. Полицейский надзиратель из Санкт-Петербурга.
- Мостовые атакуют людей в присутствии полицейских надзирателей. Ну надо же, - улыбнулся таки Тринклер, но тут же посерьезнел. - Он сознание терял? Бред? Рвота?
- Кажется, нет - ответил Гуров.
- Хорошо, - заключил доктор. - Шить тут нечего, да и след от шва останется... Рану я сейчас обработаю и перевяжу. Но сотрясение мозга имеет место быть. Поэтому пить порошок, который я оставлю, и лежать. Два-три дня.
- А коньяк? - спросил Реуцкий с надеждой.
- Ни в коем случае. Спиртное, табак - забудьте. Про постельный режим говорить не буду, ибо подозреваю, что без толку, но по крайней мере - меньше двигайтесь. Вы, конечно, можете станцевать польку с рюмкой коньяка в одной руке и сигарой – в другой , но я бы не рекомендовал, если вы, конечно, не хотите мучиться всю жизнь головными болями.
- Вот спасибо, профессор, - грустно ответил Реуцкий.
- Я не профессор, а приват-доцент. Но вряд ли профессор посоветовал бы вам что-то другое.
Когда Тринклер уходил, Харина, не забывая о светских обязанностях, улыбаясь, сказала:
- Зайдете на следующей неделе, Николай Петрович?
- Увы, нет, Александра Гавриловна, уезжаю в Берлин на хирургический конгресс. Но по приезду – обязательно, - ответил Тринклер и галантно поцеловал руку хозяйке.
"Приват-доценты, разъезжающие по европейским конгрессам. Все-таки Харьков - не такая уж провинция", - подумал Гуров и решил, что коль Реуцкий в теперь в надежных руках, пора бы откланиваться.
Пожимая Гурову руку, Реуцкий сказал:
- Спасибо вам, Федор Иванович, вы мне сегодня жизнь спасли. Я не знаю, что еще сейчас сказать или сделать, поэтому только спасибо. И вот еще что... - Гуров уже понял, что Реуцкий скажет то, что самому Гурову пришло в голову сразу, но как следует обдумать это он еще не успел, да и думать об этом не хотелось. - Целью ведь могли быть вы. Темно было, расстояние большое... Мог убийца перепутать или просто промахнуться. Вам бы охрану... Не хочу вас так отпускать, - при этом он посмотрел на Харину, которая молча кивнула.
- Спасибо, охрана у меня есть, - Гуров улыбнулся и показал на Тихона.
- И тебе спасибо, голубчик, - сказал Реуцкий. - Ты сегодня целого тайного советника из-под обстрела можно сказать вытащил, - он рассмеялся было, но тут же поморщился от головной боли.
Попрощавшись с хозяйкой, Гуров с Тихоном вышли на улицу.
- Пойдем, Тихон, проводишь меня - сказал Гуров.
К Тихону, конечно, была масса вопросов, но Гуров слишком устал, поэтому шли молча. Прощаясь у гостиницы, Гуров, не будучи уверенным в том, появится ли Тихон здесь завтра, попросил его быть с утра. Такой помощник может пригодиться, решил Гуров, да и надо было расставить все точки над і в ситуации с Тихоном.
На следующее утро коридорный протянул Гурову телеграмму, которая, как и телеграмма об убийстве Голиафа, заставила Гурова еще и еще раз вчитываться в несколько слов.
В телеграмме говорилось: "Секретарь в Екатеринославе не был. Бумаги из министерства пропали. Без меня ничего не предпринимать. Филиппов".
Почему не предпринимать, ведь теперь очевидно, что Городецкого надо брать в оборот? Получается, он солгал про алиби. Почему пропали документы? Потому что в них было что-то, не предназначенное для посторонних глаз? Так значит - это все-таки след? И почему все же не предпринимать, ведь теперь надо было опросить всех, кто имел отношение к их составлению? И что значит "без меня"? Филиппов приедет лично?
Что еще поразило Гурова - так это скорость, с которой было проверено алиби секретаря и наличие бумаг в министерстве. Для неповоротливого полицейского механизма это было крайне необычно. Видимо, Филиппов в силу важности расследования нажал на какие-то неведомые рычаги.
После недолгого размышления Гуров решил нарушить указание начальника и все же посетить Городецкого. Он понял, что просто не сможет теперь усидеть на месте, ожидая неизвестно чего и неизвестно сколько.
Для предстоящей беседы ему очень пригодился бы Тихон, потому что вид у него был внушительный. К тому же, очень вероятно, предстояла беседа с убийцей, который, судя по вчерашнему вечернему приключению, был склонен к решительным действиям. Так что физическая помощь могла понадобиться. Гуров выглянул за окно и не заметил привычной фигуры. Он разочарованно вздохнул, но тут же заметил увальня, который несся по улице, не обращая внимания на крики задетых торговок.
Гуров спускался по лестнице, когда Тихон ворвался в гостиницу и, увидев Гурова, выпалил:
- Убит!
- Что?! Кто?! Реуцкий?!
Через десять минут Гуров с Тихоном, пробирались через толпу зевак, стоявшую в довольно глухом месте большого парка, начинающегося сразу за Рымарской и тянущегося вдоль Сумской.
- Полицейский надзиратель сыскной части при канцелярии обер-полицмейстера Санкт-Петербурга Гуров Федор Иванович, - официально представился Гуров городовому.
Городовой, сдерживающий толпу зевак тычками мощных кулаков и смачной матерной руганью, кивнул на тело, лежащее на траве.
Ровно посередине лба единственного подозреваемого в расследовании, Антонина Людвиговича Городецкого, находилось аккуратное отверстие от пули. Секретарь лежал на траве, раскинув руки, и смотрел остекленевшими глазами на теплое весеннее небо.
Гурова интересовал один-единственный вопрос, который он задал второму полицейскому, топтавшемуся возле тела:
- Пистолет при нем нашли?
- Нашли, - ответил полицейский, удивленный такой осведомленностью заезжего столичного чина.
Следующий вопрос удивил полицейского еще больше:
- В магазине или барабане не хватало двух пуль?
- Да, - сказал совсем ошалевший от такой прозорливости полицейский.
Впрочем, он быстро взял себя в руки и начал подступаться к Гурову:
- А вы откуда, собственно...
- Ниоткуда, - резко прервал его Гуров и начал пробираться через толпу.
За следующие несколько минут Тихон существенно обогатил свой словарный запас отборным столичным матом с включением витиеватых литературных оборотов.
После этого Гуров замолчал и задумчиво посмотрел на Тихона. Что теперь делать, Гуров не знал, но возникшая утром заряженность на действия оставалась. Поэтому он решил за неимением лучшего плана действий разобраться-таки с Тихоном.
- Ну давай, веди меня.
- Куда? - спросил Тихон, до сих пор переваривающий словесный шквал Гурова.
- К тому, кто тебя послал. Идти недалеко, я так понимаю. Пошли.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий был очень стар и худ, но глаза его смотрели живо и даже весело.
- Благодарю вас, владыка, за помощь, за Тихона благодарю. И за семинаристов возле банка... - начал Гуров.
- Господа благодарите, уважаемый. Непрестанно, - прервал его владыка. - А мы, скромные слуги его, чего уж греха таить, и свои цели преследовали.
- Цели? - переспросил Гуров озадаченно.
- Пришло нам распоряжение из Синода - в ситуации этой разобраться, расследовать, так сказать. Потому что вопрос имелся с похоронами.
- Да, ведь он считался самоубийцей, - понял Гуров.
- Вот именно. Но я в это не верил. Знавал я покойного - шапочно, но знавал. И взял на себя ответственность - похоронили его внутри кладбищенской ограды, по всем канонам. Синоду это не понравилось, и он потребовал доказательств. Ведь я хоть и стар, но не старец, и только прозорливостью от иерархов наших не отобьюсь, - владыка весело рассмеялся.
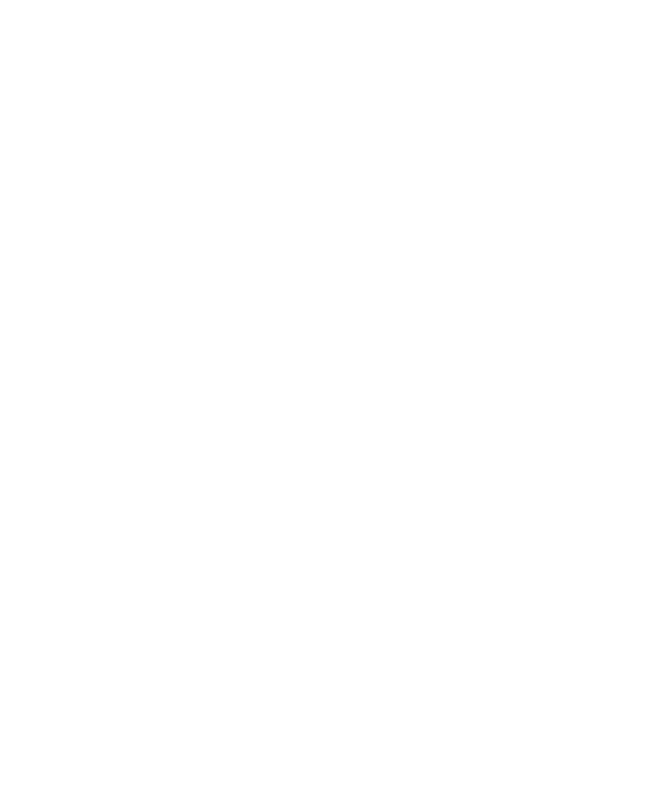
Архиеписком Амвросий
- И вы решили, что я добуду доказательства?
- Ну а кто же? Мы же тут не пинкертоны какие, - улыбнулся владыка и добавил. - Да и кто у меня есть? Послушник Тихон вот, сирота безродная, да еще несколько людей верных. Вы же человек, как рассказывали мне, умный, хоть и к вере холодный.
- Ну, тогда вот вам доказательства.
Гуров честно рассказал владыке все, что ему удалось узнать в отношении секретаря. При этом он опустил почти все, что было связано с делами Алчевского и бумагами. Еще и потому, что и сам во всем этом еще не разобрался. Рассказ, конечно, получился насквозь дырявый и несвязный.
- Много вы скрываете, господин надзиратель, ой много, - погрозил владыка пальцем Гурову, но тут же заметил. - Потому что и не знаете всего, как я погляжу.
- Не знаю, владыка, - честно признался Гуров.
- Ну ничего, ничего, - утешительно произнес Амвросий и продолжил. - Узнаете все со временем, если Господь надоумит. Помните одно только. Сказано в писании: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные". А еще - помните слова Феофана Затворника: "Есть ложь, которая может обольстить, ибо проповедует от имени Апостолов и святой Церкви. Смиренно прокрадываются они в дома и развращают разумы неутвержденных" Вот вам мое пастырское надоумение. Бог даст, поймете и во всем разберетесь. А нет - так тому и быть. Ибо сказано: "Кто умножает познания, умножает скорбь". Тем и утешитесь.
Выйдя от владыки, Гуров задумался над его последними словами. На старческий бред это было не похоже - владыка был еще очень бодр и остер умом. И тут Гуров начал догадываться, что тот имел в виду. Картина постепенно складывалась из кусочков, и хотя было много пробелов, многое находило свое объяснение. Он зашагал в гостиницу, выдал пять рублей Тихону на обед в ресторане и велел ждать. Сам заказал себе в номер чаю и потом, заказывая его неоднократно, беспрерывно курил и ходил по номеру из угла в угол. Спустя часа три Гуров бросился к столу и стал быстро записывать. Еще минут через двадцать потребовал конверт, запечатал в него исписанные листки, подозвал Тихона и сказал:
- Тихон, это очень важно, очень. Если со мной что-нибудь случится...
- Не приведи Господь, да что ж вы такое говорите...
- Прекрати и слушай. Если со мной что-нибудь случится - отдашь этот конверт Владимиру Гавриловичу Филиппову, чиновнику по особым поручениям при петербургском градоначальнике. Он должен приехать со дня на день и, наверное, будет искать меня здесь. Если не приедет - как хочешь, хоть пешком, иди в Санкт-Петербург, но пакет отдай. Богом поклянись!
- Клянусь! - растерянно произнес Тихон.
- Вот и чудно, - как будто успокоившись, сказал Гуров и попросил. - А теперь найди-ка мне извозчика. Но за мной ехать не смей. Ибо помнишь, что владыка говорил? Кто умножает познания, умножает скорбь. А зачем тебе скорбь, а? - Гуров рассмеялся, пытаясь подбодрить совсем поникшего Тихона.
Через десять минут Гуров открыл дверь и направил в сидящего за столом браунинг. Человек, увидев пистолет, поморщился.
- Ради Бога, уберите. К чему эта театральщина? Лучше расскажите, как вы догадались?
- Ну а кто же? Мы же тут не пинкертоны какие, - улыбнулся владыка и добавил. - Да и кто у меня есть? Послушник Тихон вот, сирота безродная, да еще несколько людей верных. Вы же человек, как рассказывали мне, умный, хоть и к вере холодный.
- Ну, тогда вот вам доказательства.
Гуров честно рассказал владыке все, что ему удалось узнать в отношении секретаря. При этом он опустил почти все, что было связано с делами Алчевского и бумагами. Еще и потому, что и сам во всем этом еще не разобрался. Рассказ, конечно, получился насквозь дырявый и несвязный.
- Много вы скрываете, господин надзиратель, ой много, - погрозил владыка пальцем Гурову, но тут же заметил. - Потому что и не знаете всего, как я погляжу.
- Не знаю, владыка, - честно признался Гуров.
- Ну ничего, ничего, - утешительно произнес Амвросий и продолжил. - Узнаете все со временем, если Господь надоумит. Помните одно только. Сказано в писании: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные". А еще - помните слова Феофана Затворника: "Есть ложь, которая может обольстить, ибо проповедует от имени Апостолов и святой Церкви. Смиренно прокрадываются они в дома и развращают разумы неутвержденных" Вот вам мое пастырское надоумение. Бог даст, поймете и во всем разберетесь. А нет - так тому и быть. Ибо сказано: "Кто умножает познания, умножает скорбь". Тем и утешитесь.
Выйдя от владыки, Гуров задумался над его последними словами. На старческий бред это было не похоже - владыка был еще очень бодр и остер умом. И тут Гуров начал догадываться, что тот имел в виду. Картина постепенно складывалась из кусочков, и хотя было много пробелов, многое находило свое объяснение. Он зашагал в гостиницу, выдал пять рублей Тихону на обед в ресторане и велел ждать. Сам заказал себе в номер чаю и потом, заказывая его неоднократно, беспрерывно курил и ходил по номеру из угла в угол. Спустя часа три Гуров бросился к столу и стал быстро записывать. Еще минут через двадцать потребовал конверт, запечатал в него исписанные листки, подозвал Тихона и сказал:
- Тихон, это очень важно, очень. Если со мной что-нибудь случится...
- Не приведи Господь, да что ж вы такое говорите...
- Прекрати и слушай. Если со мной что-нибудь случится - отдашь этот конверт Владимиру Гавриловичу Филиппову, чиновнику по особым поручениям при петербургском градоначальнике. Он должен приехать со дня на день и, наверное, будет искать меня здесь. Если не приедет - как хочешь, хоть пешком, иди в Санкт-Петербург, но пакет отдай. Богом поклянись!
- Клянусь! - растерянно произнес Тихон.
- Вот и чудно, - как будто успокоившись, сказал Гуров и попросил. - А теперь найди-ка мне извозчика. Но за мной ехать не смей. Ибо помнишь, что владыка говорил? Кто умножает познания, умножает скорбь. А зачем тебе скорбь, а? - Гуров рассмеялся, пытаясь подбодрить совсем поникшего Тихона.
Через десять минут Гуров открыл дверь и направил в сидящего за столом браунинг. Человек, увидев пистолет, поморщился.
- Ради Бога, уберите. К чему эта театральщина? Лучше расскажите, как вы догадались?
кабинете санкт-петербургского градоначальника Николая Васильевича Клейгельса повисла тяжелая пауза. Поникший было градоначальник вновь выставил вперед могучие бакенбарды и попытался дать последний бой:
- Вы не смеете!
- Да, не смею... - устало согласился его собеседник. – Но, боюсь, у меня нет другой возможности... Еще раз повторяю: о том, что агентурное сообщение поступило от Голиафа, знали только Гуров, я и вы. Из секретного архива эти сведения утечь никак не могли: весь этот архив последние несколько дней находился в моей приемной для приведения в порядок - по вашему, к слову сказать, распоряжению. Помните?
Конечно, Клейгельс не считал нужным помнить о таких служебных мелочах, но кивнул, попытавшись снова перейти в наступление:
- Разве вы можете быть уверенным в своих людях?..
- Да, - резко перебил его Филиппов. - Могу. Сообщение от Голиафа не покидало моего кабинета...
- А этот ваш Гуров?
Филиппов понял, что старый вояка уже занял круговую оборону. Пробивать ее казалось делом бессмысленным, и Филиппов решил подойти с другой стороны.
- Николай Васильевич, вы же знаете, как я и все вокруг вас уважают. Я уверен, что то, что вы сделали, вы сделали из лучших побуждений. А возможно - по незнанию. Все ошибаются. Но никакого умысла даже я, старый полицейский лис, заподозрить тут не могу. Именно поэтому, Богом клянусь, сведения об этом досадном... недоразумении не покинут стен этого кабинета. Более того, мне совершенно не нужно знать, когда и при каких обстоятельствах вы сообщили о донесении Голиафа. Мне нужно знать, кому вы сообщили об этом. Кому? Имя! И покончим с этим, черт возьми!
Бакенбарды поникли, и Филиппов понял, что победил. Клейгельс назвал фамилию и добавил:
- На званом ужине...
Гуров убрал спрятал пистолет, поняв, что действительно выглядит слегка нелепо. Но точки над i он все же расставил:
- Свои соображения я изложил в отдельном документе, который в случае моей смерти получит ход...
- Ради Бога, прекратите. Я же не убийца. Тем более, убивать вас, человека столь ценного... И я же не дурак. Хотя, наверное, все же дурак, раз вы оказались здесь, да еще с этой нелепой штукой в руках. Итак, Федор Иванович, рассказывайте. Где я ошибся?
- Да не то чтобы ошиблись, Михаил Павлович... - начал было Гуров, а потом спросил. - Как к вам обращаться теперь изволите? Фамилию то я знаю... господин Рябушинский.
- Вы не смеете!
- Да, не смею... - устало согласился его собеседник. – Но, боюсь, у меня нет другой возможности... Еще раз повторяю: о том, что агентурное сообщение поступило от Голиафа, знали только Гуров, я и вы. Из секретного архива эти сведения утечь никак не могли: весь этот архив последние несколько дней находился в моей приемной для приведения в порядок - по вашему, к слову сказать, распоряжению. Помните?
Конечно, Клейгельс не считал нужным помнить о таких служебных мелочах, но кивнул, попытавшись снова перейти в наступление:
- Разве вы можете быть уверенным в своих людях?..
- Да, - резко перебил его Филиппов. - Могу. Сообщение от Голиафа не покидало моего кабинета...
- А этот ваш Гуров?
Филиппов понял, что старый вояка уже занял круговую оборону. Пробивать ее казалось делом бессмысленным, и Филиппов решил подойти с другой стороны.
- Николай Васильевич, вы же знаете, как я и все вокруг вас уважают. Я уверен, что то, что вы сделали, вы сделали из лучших побуждений. А возможно - по незнанию. Все ошибаются. Но никакого умысла даже я, старый полицейский лис, заподозрить тут не могу. Именно поэтому, Богом клянусь, сведения об этом досадном... недоразумении не покинут стен этого кабинета. Более того, мне совершенно не нужно знать, когда и при каких обстоятельствах вы сообщили о донесении Голиафа. Мне нужно знать, кому вы сообщили об этом. Кому? Имя! И покончим с этим, черт возьми!
Бакенбарды поникли, и Филиппов понял, что победил. Клейгельс назвал фамилию и добавил:
- На званом ужине...
Гуров убрал спрятал пистолет, поняв, что действительно выглядит слегка нелепо. Но точки над i он все же расставил:
- Свои соображения я изложил в отдельном документе, который в случае моей смерти получит ход...
- Ради Бога, прекратите. Я же не убийца. Тем более, убивать вас, человека столь ценного... И я же не дурак. Хотя, наверное, все же дурак, раз вы оказались здесь, да еще с этой нелепой штукой в руках. Итак, Федор Иванович, рассказывайте. Где я ошибся?
- Да не то чтобы ошиблись, Михаил Павлович... - начал было Гуров, а потом спросил. - Как к вам обращаться теперь изволите? Фамилию то я знаю... господин Рябушинский.
- Так и обращайтесь - Михаил Павлович. Тут все честно. Да, Михаил Павлович Рябушинский, один из восьми братьев славного купеческого рода, - иронично добавил Реуцкий-Рябушинский и продолжил. - И действительно дружен с Сергеем Юльевичем Витте. И действительно разбираюсь в финансах: окончил Московскую практическую академию коммерческих наук, да и участие в делах семейных многому научило... Да что это я все о себе да о себе... Впрочем, сейчас опять давайте поговорим обо мне, - рассмеялся было Рябушинский, но тут же поморщился от головной боли, приложил руку к повязке и повторил вопрос. - Так как вы догадались?
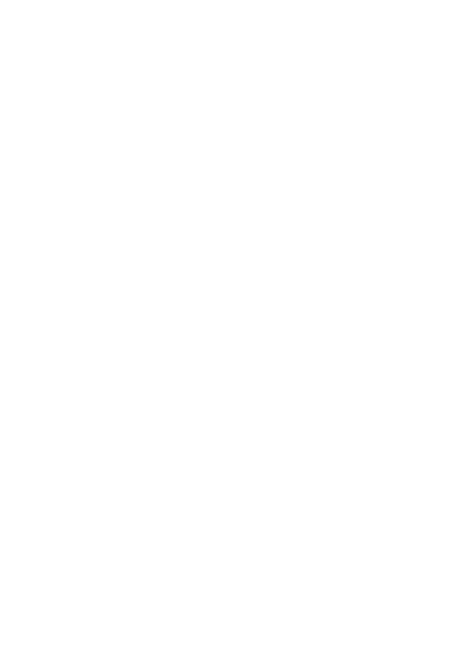
Михаил Рябушинский
Гуров почувствовал, что первое напряжение, кажется, немного спало. Возможно, Рябушинский и сам тяготился своим обманом, по крайней мере, находясь рядом с Гуровым, и теперь, когда все становилось на свои места, испытывал известное облегчение.
- То, что господ Рябушинских, самых крупных кредиторов Алчевского, до сих пор не было видно на горизонте, меня сразу удивило. Сколько он вам задолжал? Пять миллионов?
- Восемь, Федор Иванович, восемь. Но продолжайте же.
- Вряд ли столь крупные кредиторы не знали о положении дел покойного. Поначалу я решил, что вы, то есть не вы тогда еще, а господа Рябушинские, рассчитывали, как и Алчевский, на помощь Витте с тем, чтобы потом вернуть свое с лихвой. А потом рассудил, что не могут же все витать в облаках одновременно. Да и ваша версия о покупке дела Алчевского в обмен на задолженность по облигациям выглядела убедительно. И версия эта, я так думаю, верна. Правда ведь?
- Конечно. Лгать без необходимости смысла нет. Да и хотелось помочь вам в рассуждениях. Может быть, потому, что люблю правильные вопросы.
- Тогда позвольте еще один вопрос. В чьих интересах на самом деле готовилась сделка? Конечно, не в ваших, ибо, как я понимаю, дальнейшая цепь событий была связана с вашим желанием этой сделке помешать. Так против кого была затеяна вся эта игра? Высочайшая фамилия? Бельгийцы? Кто?
- Э нет, - улыбнулся Рябушинский. - Вот этого я вам не скажу. Непосредственного касательство к делу это, поверьте, не имеет, так что речь идет лишь об удовлетворении вашего любопытства. И думаю, вам это знать без надобности.
- Возможно, вы правы, и к делу это отношения не имеет. Зато имеет отношение способ, которым вы решили помешать сделке, - бумаги, отправленные по почте в министерство. Фальшивые бумаги, которые должны были убедить Витте в том, что Алчевский ведет нечестную игру. Или в том, что имущество Алчевского не стоит восьми миллионов, потому что уже является залогом по каким-то закладным... Что-то в этом роде. Об их содержимом, я так понимаю, уже никто не узнает.
- А жаль. Жаль, Федор Иванович. Это были не бумаги, а произведение искусства! - воскликнул Рябушинский. - Добавить червоточины в колонки цифр, зародить сомнение в уме пытливом, сделать вид, что имеет место попытка, причем умная попытка, скрыть реальное положение дел...
- Я думаю, вам в этом помогло близкое знакомство с министром. Должно быть, вы знали, как он мыслит и на что обратит внимание. К тому же ваше пребывание здесь в качестве тайного советника помогло собрать нужные сведения и для изготовления фальшивки, и для того, чтобы подготовиться к изъятию имущества Алчевского после объявления его банкротом. Вы же сами тогда, в ресторане, сказали, что на это нужно время. Как вы изволили выразиться, чтобы "разобраться в хитросплетениях весьма запутанных дел и обязательств господина Алчевского". Вот этим-то вы здесь, в Харькове, и занимались. И теперь, я так понимаю, господа Рябушинские получат свое с лихвой, откусив изрядный кусок от состояния покойного.
- Да, покойного... - задумчиво проговорил Рябушинский - Но вы ведь понимаете, что не покойного имущество мы планировали забрать, а банкрота. Понимаете разницу?
- Понимаю. К убийству Алчевского вы действительно отношения не имеете, хоть и запустили череду событий, приведших к этому. У господина секретаря, который, я думаю, не только совершил подмену документов, но и помог вам с составлением фальшивки, сдали нервы. Что-то пошло не так. Что? У меня есть предположения на сей счет, и не одно, но это только предположения. Может быть, вы объясните хотя бы это? Ведь к делу это отношение имеет самое непосредственное?
- Отчего же не объяснить. Тем более, это меня хоть немного оправдает. Я грешен, конечно, но убийцей никогда не был. Я не убийца, слышите! Я -деловой человек, как говорят американцы - бизнесмен!
Рябушинский перевел дух и продолжил.
- Секретарь настаивал, чтобы после изучения бумаг министром в архиве оказались настоящие бумаги. Если бы этот обман вскрылся, это отвело бы от него подозрения: подменившего искали бы в первую очередь в министерстве, в Санкт-Петербурге. Поэтому он поехал вместе с Алчевским, в том же поезде, только вторым классом, постаравшись изменить внешность. С собой он вез настоящие бумаги, для замены.
- Как-то сложно это все. Зачем?
- За труды ему была обещана награда, после получения которой вопрос с подозрениями мог бы его уже не волновать. Можно было бежать, начать новую жизнь где угодно - хоть в империи, хоть за ее пределами. Но новая жизнь ему была не нужна. Он предпочел остаться в доме Алчевских. Видимо, поближе к объекту своих воздыханий. Вы знаете, что он был влюблен в одну из дочерей?
- Знаю, - ответил Гуров.
- Никогда этого не понимал, - продолжая расхаживать по комнате и активно жестикулировать, сказал Рябушинский. - Я вот всегда влюблен, иногда по два раза на дню. Но нельзя же ставить под угрозу свою жизнь. Тем более, без малейших перспектив... успеха на любовном поприще, будь оно неладно. Вот вы, Федор Иванович, как человек умный скажите: ну вот зачем это все? Почему бы не брать от жизни деньгами, а?
Гуров вернул Рябушинского к повествованию.
- И что случилось дальше? Как я понимаю, он не смог подменить бумаги?
- Да. Собственно, это и была случайность, приведшая к роковым последствиям. Хотите верьте, хотите нет, но объяснений этой случайности я не знаю. Наш человек в министерстве, который должен был встретиться с секретарем и подменить бумаги, исчез. Просто исчез в этот день и, насколько я знаю, не нашелся до сих пор. И Городецкий запаниковал. Вместо того чтобы бежать, выполнив свою роль, он решил себя обезопасить. Ведь Алчевский мог догадаться о причинах охлаждения министра к идее выпуска облигаций и затребовать бумаги, которые лежали в министерстве.
- Обезопасить себя, убив Алчевского?
- Я думаю, не только в этом была причина. Секретарь покойного ненавидел - как только может ненавидеть слуга своего хозяина. Тот был, я вам доложу, - не подарок. Да вы об отношении покойного к своему секретарю знаете, наверное. А вот чего вы не знаете наверняка, так это того, что деятельность Алчевского в Екатеринославской губернии стала причиной разорения родителей Городецкого - мелких землевладельцев. Само по себе это причиной быть не могло, но вместе со всем остальным... К тому же о том, что секретарь в это время находится в Санкт-Петербурге, знал только я. Даже наш пропавший человек из министерства не имел понятия, кем является тот, кто привезет ему документы. Так что случай подвернулся для Городецкого неплохой.
В общем - этот идиот, а он был, согласитесь, идиотом, решил обезопасить себя и поквитаться с Алчевским за обиды. Что он планировал делать, я не знаю: поговорить с ним, что называется, по душам возможности у меня не было. Впрочем, можно предположить, что найти Алчевского, идущего к харьковскому поезду, труда не составило, а дальше - удобный случай. Не было бы случая - был бы выстрел, например... Хотя, к счастью, стрелок из него, видимо, не очень. - Рябушинский усмехнулся, коснувшись повязки на голове.
- А Голиаф? - спросил Гуров. - Зачем?
- Какой Голиаф? - удивился Рябушинский. - Вы это о чем?
- Коль скоро вы не знаете, то и Бог с ним. Должны же и у меня остаться какие-то секреты. Относящиеся к делу, конечно, но к вашей деятельности, может быть, и нет. Вернемся лучше к секретарю. Так в кого он стрелял?
- Я думаю - все же в вас, хотя и моя смерть - единственного человека, который мог прояснить его роль, - была бы для него крайне полезной. Но все же, думаю, его целью были, прежде всего, вы.
- Да, мой вопрос о бумагах его напугал. К тому же он знал, где я буду этим вечером. Более того, он сам меня туда исподволь направил, сказав, что там будет Любарский-Письменный.
- Да, кстати! - воскликнул Рябушинский, взял со стола конверт и протянул Гурову. - Десять тысяч. Небольшой презент от членов правления Земельного банка.
- Так вот что вы написали, когда мы уходили от них, и вот что значили ваши слова об их благоразумии, - догадался Гуров.
- Ну да. Так и написал - единицу и пять нулей, - рассмеялся Рябушинский. -Люди это - деловые, не то что влюбленные полоумные секретари. Сразу все поняли. Сегодня вот с нарочным доставили. Мне эти деньги без надобности. Мне нужно было лишь их бдительность усыпить, чтобы они глупостей не наделали. Они теперь полагают, что откупились. Но завтра я исчезну, и на сцене появятся два моих братца, которые сейчас трясут бородами в скором из Санкт-Петербурга. И начнется тут совсем другой кордебалет, уж поверьте.
- Тем более, почву для него вы подготовили, - заметил Гуров и продолжил. - А что же секретарь?
- А что мне было делать? Он же стал совсем опасен. Для меня опасен и для вас, что, поверьте, тоже причина. Вот что еще мне с ним было делать?
- Именно это вы обсуждали с госпожой купчихой, которая ловко отослала нас с Тихоном из комнаты.
Рябушинский ничего не ответил, но Гуров не отступал.
- К слову, кто она вообще такая? Непростая барышня. Купчиха, у которой можно быстро прикупить услуги мокрых дел мастера... Вы же не сами, в конце концов... Да и не могли вы в вашем состоянии.
Рябушинский задумался на мгновенье, а потом проговорил:
- Вы уж извините великодушно, Федор Иванович, но каюсь я обычно только в своих грехах. Тем более, я думаю, у вас еще будет возможность во всем разобраться. И я уверен, что насчет мадам Хариной вы с плеча рубить не станете.
- Возможность разобраться?
- Да, действительно, вы еще ничего не знаете. Но вскоре узнаете - я думаю, не от меня. Не будем торопить события.
Возникла неловкая пауза, и Рябушинский воскликнул:
- А к черту докторов! Выпьем коньяку! И наконец-то расскажите, как вы догадались, что я - это я? Вы же только "во-первых" сказали - что ждали появления на сцене Рябушинских. Но почему именно я?
- Мелочи вас подвели. И одна подсказка, - сказал Гуров, принимая из рук Рябушинского рюмку. - Когда мы удирали от здания банка, вы назвали семинаристов "никонианцами". Не просто "православными", например. Так назвать их мог только старообрядец, жертва, так сказать, реформ Никона. И еще - привычка ваша рюмку пустую на стол не ставить. Старообрядческая ведь привычка.
- Да. Как у нас говорят, чтоб не стояла пастью, - рассмеялся Рябушинский. -Сам я человек не особо верующий, но привычки - штука стойкая. А подсказка? Кто-то еще догадался, кто я?
- Одно высокое духовное лицо. Он мне процитировал писание про лжепророков в овечьей одежде и Феофана Затворника слова, про старообрядцев сказанные.
- Понятно... - протянул Рябушинский. - Владыка.
- А он откуда узнал? - в свою очередь спросил Гуров.
- Ну, прозорливости тут никакой нет, - улыбнулся Рябушинский - хотя дед, конечно, исключительный. Мне тут про него много порассказали. Дело, наверное, вот в чем. Я сюда на Пасху приехал. Зашел в собор, чтобы цвет местного общества весь сразу осмотреть. Да и заслушался. Наше-то единогласное пение победнее будет вашего многоголосья. И по привычке руки скрестил на груди, как у нас на службах принято. Вот владыка и заприметил. Я видел, что заприметил, - зыркнул так, что проняло прямо... Видать, стал справки наводить - кто таков. Ну вот так и понял. Но вряд ли понял, что я именно Рябушинский. А вы-то как догадались, что не просто старообрядец?
- Да тут все просто, - улыбнулся Гуров. - Люди, которые с золотой ложкой во рту родились, - иная порода. Этого сыграть нельзя. Это или есть, или нет. Вот так, собственно, все и сложилось. Богатый, очень богатый старообрядец или, по крайней мере, человек, воспитанный в старообрядческой среде... Кто еще это может быть?
- Вполне разумно, - согласился Рябушинский и спросил. - Ну и что вы собираетесь теперь делать?
- Не знаю, - честно ответил Гуров. - По всей видимости - ничего. Не потащу же я вас в кутузку. С чем? Да и зачем? Убийца миллионщика мертв. Остальное - домыслы и предположения... Взять вас за жабры все равно не получится... Да и не хочется этого делать. Черт знает, что за дело. Налейте-ка еще коньяку.
- А хотите, я вам два смешных случая расскажу, как я чуть было не раскрыл свое инкогнито? - весело сказал Рябушинский, разливая коньяк. - Честное слово - оба раза смешно было. Хотя тогда мне было не до смеха. Итак, сидел я как-то в кабинете генерал-губернатора...
На следующий день Гуров лежал в своем номере, заложив руки за голову, и рассматривал потолок, размышляя над тем, что рассказывать, а что – не рассказывать вдове покойного. Ведь отчитаться надо было. Причем отчитаться так, чтобы, с одной стороны, не рассказать лишнего, а с другой - не выглядеть пустым бездельником.
Дело значительно упрощалось тем фактом, что в деньгах вдовы он уже не нуждался. Потому что десять тысяч от банкиров Алчевского, переданные Рябушинским, Гуров взял, рассудив, что, во-первых, он их честно заработал. Во-вторых, путь, которым к нему попала эта сумма, освобождал его от обязательств перед кем бы то ни было. А в-третьих - брать деньги у вдовы, которую и так ждут тяжелые времена, было как-то неправильно.
Ко всему прочему оставалось еще несколько вопросов, на которые Гуров не получил ответа у Реуцкого-Рябушинского и над которыми стоило поразмышлять. В тот момент, когда Гуров строил предположения насчет того, почему же у секретаря не получилось подменить документы, в дверь постучали и раздался знакомый голос:
- Федор Иванович, открывайте немедленно! Вы живы там?
- Жив, жив, Владимир Гаврилович! - воскликнул Гуров и впустил Филиппова. - Какими судьбами?
- Только что сошел с поезда и сразу к вам. Ну, рассказывайте.
Следующий час Гуров в подробностях рассказывал начальнику обо всем, что с ним случилось за последние четыре дня, и попутно прояснил вопросы, которые окончательно закрыли все пробелы в мозаике событий.
- Чиновник Витте никак документы подменить не мог, потому что погиб, - сказал Филиппов. - Помните, что случилось в тот день, когда погиб Алчевский, 7 мая? Нас к этому делу не привлекали, конная полиция занималась. Помните?
- Выступление рабочих на Обуховском сталелетейном, - вспомнил Гуров. - Там кто-то погиб.
- Да. Восемь человек. Среди них - один случайный прохожий. Мелкий чиновник Министерства финансов, который жил на Невской заставе и спешил на службу. Разумеется, ничего мы доказать не можем, да и не будем, но это единственный, кто тогда не явился на службу. Опознали его не сразу... Случайная смерть от неизвестно кем выпущенной пули во время уличных беспорядков. Никогда раньше такого не было, но что-то кажется мне, что не последнее это выступление, и смерти еще будут, в том числе и случайные. Куда-то не туда катится империя. Попомните мои слова - не кончится это добром...
- Так что же, получается, эта случайность и стала началом в цепи всех событий? Не будь этой смерти - Алчевский был бы жив? - спросил Гуров задумчиво.
- Да, голубчик, случайность - это дело серьезное. Так мы и узнали о смерти Голиафа, к слову сказать. Решил я расчистить наши бумажные авгиевы конюшни и во время упорядочивания картотек кто-то сопоставил имя агента с донесением об убийстве на Лиговке. Тут же мне доложили. Эх, машину какую изобрести бы, чтобы как-то сама такие вещи делала... Может, и изобретут когда, а пока - все по алфавиту расставим и наладим систему проверок по карточкам...
- А кто сдал и убил Голиафа? - спросил Гуров.
Филиппов после паузы ответил:
- Кто сдал - этого я вам не скажу. Не надо вам об этом знать. Произошло это по недоразумению, а не по умыслу, и предлагаю на этот вопрос ответ не искать. Не нужно это... поверьте. А что до того, кто... Братья, получив сведения о том, что есть свидетель, запаниковали так же, как и секретарь. И решили замести следы - разумеется, кого-то наняв. И Реуцкий, действительно, об этом, скорее всего, не знал. Более того, судя по тому, что вы мне о нем рассказали, такой откровенной глупости он бы не позволил. Так что тут его обвинять не в чем.
Гуров понял, что у него остался всего один вопрос:
- Теперь - домой?
- Нет, не домой, - к удивлению Гурова ответил Филиппов. - Ни вы, ни я домой не едем.
- Почему? - спросил опешивший Гуров.
- Потому что ваше появление в столице теперь нежелательно. Мне дали понять это вполне недвусмысленно. Видимо, сведения о вашей осведомленности кому-то не понравились. Но с другой стороны - и оценка ваших способностей до столицы дошла. Подозреваю в этом господина Реуцкого-Рябушинского. И поздравляю вас с повышением, Федор Иванович! - торжественно сообщил Филиппов. - Бог услышал наши сбивчивые сыщицкие молитвы, и сыскные отделения сейчас создаются во всех крупных городах империи. Высочайшим указом вы назначены начальником сыскного отделения при канцелярии харьковского обер-полицмейстера. Я этого человека хорошо знаю и думаю, вы сработаетесь. Кроме того, по сыскной части вы по-прежнему будете подчиняться мне, потому что меня тоже ждет небольшое повышение. Ну как вам такой поворотец, а? - рассмеялся Филиппов.
Гуров подумал о том, что в Санкт-Петербурге его ничто, в сущности, не держало, а Харьков ему понравился. Размышлять тут было не о чем, да и согласия его никто не спрашивал.
- Что теперь? - спросил он.
- А теперь едемте говорить с местным начальством, решать вопросы организации вашей службы. Сначала к обер-полицмейстеру, потом - к губернатору. Собирайтесь же, мне надо успеть на вечерний до Киева. Там тоже создается отделение, а ваш покорный слуга, похоже, обречен кататься по городам и весям, строя сыскную службу России. А пока расскажите подробнее о местном губернаторе. Как он вам?
Через несколько минут сыщики вышли из гостиницы и сели в пролетку.
- То, что господ Рябушинских, самых крупных кредиторов Алчевского, до сих пор не было видно на горизонте, меня сразу удивило. Сколько он вам задолжал? Пять миллионов?
- Восемь, Федор Иванович, восемь. Но продолжайте же.
- Вряд ли столь крупные кредиторы не знали о положении дел покойного. Поначалу я решил, что вы, то есть не вы тогда еще, а господа Рябушинские, рассчитывали, как и Алчевский, на помощь Витте с тем, чтобы потом вернуть свое с лихвой. А потом рассудил, что не могут же все витать в облаках одновременно. Да и ваша версия о покупке дела Алчевского в обмен на задолженность по облигациям выглядела убедительно. И версия эта, я так думаю, верна. Правда ведь?
- Конечно. Лгать без необходимости смысла нет. Да и хотелось помочь вам в рассуждениях. Может быть, потому, что люблю правильные вопросы.
- Тогда позвольте еще один вопрос. В чьих интересах на самом деле готовилась сделка? Конечно, не в ваших, ибо, как я понимаю, дальнейшая цепь событий была связана с вашим желанием этой сделке помешать. Так против кого была затеяна вся эта игра? Высочайшая фамилия? Бельгийцы? Кто?
- Э нет, - улыбнулся Рябушинский. - Вот этого я вам не скажу. Непосредственного касательство к делу это, поверьте, не имеет, так что речь идет лишь об удовлетворении вашего любопытства. И думаю, вам это знать без надобности.
- Возможно, вы правы, и к делу это отношения не имеет. Зато имеет отношение способ, которым вы решили помешать сделке, - бумаги, отправленные по почте в министерство. Фальшивые бумаги, которые должны были убедить Витте в том, что Алчевский ведет нечестную игру. Или в том, что имущество Алчевского не стоит восьми миллионов, потому что уже является залогом по каким-то закладным... Что-то в этом роде. Об их содержимом, я так понимаю, уже никто не узнает.
- А жаль. Жаль, Федор Иванович. Это были не бумаги, а произведение искусства! - воскликнул Рябушинский. - Добавить червоточины в колонки цифр, зародить сомнение в уме пытливом, сделать вид, что имеет место попытка, причем умная попытка, скрыть реальное положение дел...
- Я думаю, вам в этом помогло близкое знакомство с министром. Должно быть, вы знали, как он мыслит и на что обратит внимание. К тому же ваше пребывание здесь в качестве тайного советника помогло собрать нужные сведения и для изготовления фальшивки, и для того, чтобы подготовиться к изъятию имущества Алчевского после объявления его банкротом. Вы же сами тогда, в ресторане, сказали, что на это нужно время. Как вы изволили выразиться, чтобы "разобраться в хитросплетениях весьма запутанных дел и обязательств господина Алчевского". Вот этим-то вы здесь, в Харькове, и занимались. И теперь, я так понимаю, господа Рябушинские получат свое с лихвой, откусив изрядный кусок от состояния покойного.
- Да, покойного... - задумчиво проговорил Рябушинский - Но вы ведь понимаете, что не покойного имущество мы планировали забрать, а банкрота. Понимаете разницу?
- Понимаю. К убийству Алчевского вы действительно отношения не имеете, хоть и запустили череду событий, приведших к этому. У господина секретаря, который, я думаю, не только совершил подмену документов, но и помог вам с составлением фальшивки, сдали нервы. Что-то пошло не так. Что? У меня есть предположения на сей счет, и не одно, но это только предположения. Может быть, вы объясните хотя бы это? Ведь к делу это отношение имеет самое непосредственное?
- Отчего же не объяснить. Тем более, это меня хоть немного оправдает. Я грешен, конечно, но убийцей никогда не был. Я не убийца, слышите! Я -деловой человек, как говорят американцы - бизнесмен!
Рябушинский перевел дух и продолжил.
- Секретарь настаивал, чтобы после изучения бумаг министром в архиве оказались настоящие бумаги. Если бы этот обман вскрылся, это отвело бы от него подозрения: подменившего искали бы в первую очередь в министерстве, в Санкт-Петербурге. Поэтому он поехал вместе с Алчевским, в том же поезде, только вторым классом, постаравшись изменить внешность. С собой он вез настоящие бумаги, для замены.
- Как-то сложно это все. Зачем?
- За труды ему была обещана награда, после получения которой вопрос с подозрениями мог бы его уже не волновать. Можно было бежать, начать новую жизнь где угодно - хоть в империи, хоть за ее пределами. Но новая жизнь ему была не нужна. Он предпочел остаться в доме Алчевских. Видимо, поближе к объекту своих воздыханий. Вы знаете, что он был влюблен в одну из дочерей?
- Знаю, - ответил Гуров.
- Никогда этого не понимал, - продолжая расхаживать по комнате и активно жестикулировать, сказал Рябушинский. - Я вот всегда влюблен, иногда по два раза на дню. Но нельзя же ставить под угрозу свою жизнь. Тем более, без малейших перспектив... успеха на любовном поприще, будь оно неладно. Вот вы, Федор Иванович, как человек умный скажите: ну вот зачем это все? Почему бы не брать от жизни деньгами, а?
Гуров вернул Рябушинского к повествованию.
- И что случилось дальше? Как я понимаю, он не смог подменить бумаги?
- Да. Собственно, это и была случайность, приведшая к роковым последствиям. Хотите верьте, хотите нет, но объяснений этой случайности я не знаю. Наш человек в министерстве, который должен был встретиться с секретарем и подменить бумаги, исчез. Просто исчез в этот день и, насколько я знаю, не нашелся до сих пор. И Городецкий запаниковал. Вместо того чтобы бежать, выполнив свою роль, он решил себя обезопасить. Ведь Алчевский мог догадаться о причинах охлаждения министра к идее выпуска облигаций и затребовать бумаги, которые лежали в министерстве.
- Обезопасить себя, убив Алчевского?
- Я думаю, не только в этом была причина. Секретарь покойного ненавидел - как только может ненавидеть слуга своего хозяина. Тот был, я вам доложу, - не подарок. Да вы об отношении покойного к своему секретарю знаете, наверное. А вот чего вы не знаете наверняка, так это того, что деятельность Алчевского в Екатеринославской губернии стала причиной разорения родителей Городецкого - мелких землевладельцев. Само по себе это причиной быть не могло, но вместе со всем остальным... К тому же о том, что секретарь в это время находится в Санкт-Петербурге, знал только я. Даже наш пропавший человек из министерства не имел понятия, кем является тот, кто привезет ему документы. Так что случай подвернулся для Городецкого неплохой.
В общем - этот идиот, а он был, согласитесь, идиотом, решил обезопасить себя и поквитаться с Алчевским за обиды. Что он планировал делать, я не знаю: поговорить с ним, что называется, по душам возможности у меня не было. Впрочем, можно предположить, что найти Алчевского, идущего к харьковскому поезду, труда не составило, а дальше - удобный случай. Не было бы случая - был бы выстрел, например... Хотя, к счастью, стрелок из него, видимо, не очень. - Рябушинский усмехнулся, коснувшись повязки на голове.
- А Голиаф? - спросил Гуров. - Зачем?
- Какой Голиаф? - удивился Рябушинский. - Вы это о чем?
- Коль скоро вы не знаете, то и Бог с ним. Должны же и у меня остаться какие-то секреты. Относящиеся к делу, конечно, но к вашей деятельности, может быть, и нет. Вернемся лучше к секретарю. Так в кого он стрелял?
- Я думаю - все же в вас, хотя и моя смерть - единственного человека, который мог прояснить его роль, - была бы для него крайне полезной. Но все же, думаю, его целью были, прежде всего, вы.
- Да, мой вопрос о бумагах его напугал. К тому же он знал, где я буду этим вечером. Более того, он сам меня туда исподволь направил, сказав, что там будет Любарский-Письменный.
- Да, кстати! - воскликнул Рябушинский, взял со стола конверт и протянул Гурову. - Десять тысяч. Небольшой презент от членов правления Земельного банка.
- Так вот что вы написали, когда мы уходили от них, и вот что значили ваши слова об их благоразумии, - догадался Гуров.
- Ну да. Так и написал - единицу и пять нулей, - рассмеялся Рябушинский. -Люди это - деловые, не то что влюбленные полоумные секретари. Сразу все поняли. Сегодня вот с нарочным доставили. Мне эти деньги без надобности. Мне нужно было лишь их бдительность усыпить, чтобы они глупостей не наделали. Они теперь полагают, что откупились. Но завтра я исчезну, и на сцене появятся два моих братца, которые сейчас трясут бородами в скором из Санкт-Петербурга. И начнется тут совсем другой кордебалет, уж поверьте.
- Тем более, почву для него вы подготовили, - заметил Гуров и продолжил. - А что же секретарь?
- А что мне было делать? Он же стал совсем опасен. Для меня опасен и для вас, что, поверьте, тоже причина. Вот что еще мне с ним было делать?
- Именно это вы обсуждали с госпожой купчихой, которая ловко отослала нас с Тихоном из комнаты.
Рябушинский ничего не ответил, но Гуров не отступал.
- К слову, кто она вообще такая? Непростая барышня. Купчиха, у которой можно быстро прикупить услуги мокрых дел мастера... Вы же не сами, в конце концов... Да и не могли вы в вашем состоянии.
Рябушинский задумался на мгновенье, а потом проговорил:
- Вы уж извините великодушно, Федор Иванович, но каюсь я обычно только в своих грехах. Тем более, я думаю, у вас еще будет возможность во всем разобраться. И я уверен, что насчет мадам Хариной вы с плеча рубить не станете.
- Возможность разобраться?
- Да, действительно, вы еще ничего не знаете. Но вскоре узнаете - я думаю, не от меня. Не будем торопить события.
Возникла неловкая пауза, и Рябушинский воскликнул:
- А к черту докторов! Выпьем коньяку! И наконец-то расскажите, как вы догадались, что я - это я? Вы же только "во-первых" сказали - что ждали появления на сцене Рябушинских. Но почему именно я?
- Мелочи вас подвели. И одна подсказка, - сказал Гуров, принимая из рук Рябушинского рюмку. - Когда мы удирали от здания банка, вы назвали семинаристов "никонианцами". Не просто "православными", например. Так назвать их мог только старообрядец, жертва, так сказать, реформ Никона. И еще - привычка ваша рюмку пустую на стол не ставить. Старообрядческая ведь привычка.
- Да. Как у нас говорят, чтоб не стояла пастью, - рассмеялся Рябушинский. -Сам я человек не особо верующий, но привычки - штука стойкая. А подсказка? Кто-то еще догадался, кто я?
- Одно высокое духовное лицо. Он мне процитировал писание про лжепророков в овечьей одежде и Феофана Затворника слова, про старообрядцев сказанные.
- Понятно... - протянул Рябушинский. - Владыка.
- А он откуда узнал? - в свою очередь спросил Гуров.
- Ну, прозорливости тут никакой нет, - улыбнулся Рябушинский - хотя дед, конечно, исключительный. Мне тут про него много порассказали. Дело, наверное, вот в чем. Я сюда на Пасху приехал. Зашел в собор, чтобы цвет местного общества весь сразу осмотреть. Да и заслушался. Наше-то единогласное пение победнее будет вашего многоголосья. И по привычке руки скрестил на груди, как у нас на службах принято. Вот владыка и заприметил. Я видел, что заприметил, - зыркнул так, что проняло прямо... Видать, стал справки наводить - кто таков. Ну вот так и понял. Но вряд ли понял, что я именно Рябушинский. А вы-то как догадались, что не просто старообрядец?
- Да тут все просто, - улыбнулся Гуров. - Люди, которые с золотой ложкой во рту родились, - иная порода. Этого сыграть нельзя. Это или есть, или нет. Вот так, собственно, все и сложилось. Богатый, очень богатый старообрядец или, по крайней мере, человек, воспитанный в старообрядческой среде... Кто еще это может быть?
- Вполне разумно, - согласился Рябушинский и спросил. - Ну и что вы собираетесь теперь делать?
- Не знаю, - честно ответил Гуров. - По всей видимости - ничего. Не потащу же я вас в кутузку. С чем? Да и зачем? Убийца миллионщика мертв. Остальное - домыслы и предположения... Взять вас за жабры все равно не получится... Да и не хочется этого делать. Черт знает, что за дело. Налейте-ка еще коньяку.
- А хотите, я вам два смешных случая расскажу, как я чуть было не раскрыл свое инкогнито? - весело сказал Рябушинский, разливая коньяк. - Честное слово - оба раза смешно было. Хотя тогда мне было не до смеха. Итак, сидел я как-то в кабинете генерал-губернатора...
На следующий день Гуров лежал в своем номере, заложив руки за голову, и рассматривал потолок, размышляя над тем, что рассказывать, а что – не рассказывать вдове покойного. Ведь отчитаться надо было. Причем отчитаться так, чтобы, с одной стороны, не рассказать лишнего, а с другой - не выглядеть пустым бездельником.
Дело значительно упрощалось тем фактом, что в деньгах вдовы он уже не нуждался. Потому что десять тысяч от банкиров Алчевского, переданные Рябушинским, Гуров взял, рассудив, что, во-первых, он их честно заработал. Во-вторых, путь, которым к нему попала эта сумма, освобождал его от обязательств перед кем бы то ни было. А в-третьих - брать деньги у вдовы, которую и так ждут тяжелые времена, было как-то неправильно.
Ко всему прочему оставалось еще несколько вопросов, на которые Гуров не получил ответа у Реуцкого-Рябушинского и над которыми стоило поразмышлять. В тот момент, когда Гуров строил предположения насчет того, почему же у секретаря не получилось подменить документы, в дверь постучали и раздался знакомый голос:
- Федор Иванович, открывайте немедленно! Вы живы там?
- Жив, жив, Владимир Гаврилович! - воскликнул Гуров и впустил Филиппова. - Какими судьбами?
- Только что сошел с поезда и сразу к вам. Ну, рассказывайте.
Следующий час Гуров в подробностях рассказывал начальнику обо всем, что с ним случилось за последние четыре дня, и попутно прояснил вопросы, которые окончательно закрыли все пробелы в мозаике событий.
- Чиновник Витте никак документы подменить не мог, потому что погиб, - сказал Филиппов. - Помните, что случилось в тот день, когда погиб Алчевский, 7 мая? Нас к этому делу не привлекали, конная полиция занималась. Помните?
- Выступление рабочих на Обуховском сталелетейном, - вспомнил Гуров. - Там кто-то погиб.
- Да. Восемь человек. Среди них - один случайный прохожий. Мелкий чиновник Министерства финансов, который жил на Невской заставе и спешил на службу. Разумеется, ничего мы доказать не можем, да и не будем, но это единственный, кто тогда не явился на службу. Опознали его не сразу... Случайная смерть от неизвестно кем выпущенной пули во время уличных беспорядков. Никогда раньше такого не было, но что-то кажется мне, что не последнее это выступление, и смерти еще будут, в том числе и случайные. Куда-то не туда катится империя. Попомните мои слова - не кончится это добром...
- Так что же, получается, эта случайность и стала началом в цепи всех событий? Не будь этой смерти - Алчевский был бы жив? - спросил Гуров задумчиво.
- Да, голубчик, случайность - это дело серьезное. Так мы и узнали о смерти Голиафа, к слову сказать. Решил я расчистить наши бумажные авгиевы конюшни и во время упорядочивания картотек кто-то сопоставил имя агента с донесением об убийстве на Лиговке. Тут же мне доложили. Эх, машину какую изобрести бы, чтобы как-то сама такие вещи делала... Может, и изобретут когда, а пока - все по алфавиту расставим и наладим систему проверок по карточкам...
- А кто сдал и убил Голиафа? - спросил Гуров.
Филиппов после паузы ответил:
- Кто сдал - этого я вам не скажу. Не надо вам об этом знать. Произошло это по недоразумению, а не по умыслу, и предлагаю на этот вопрос ответ не искать. Не нужно это... поверьте. А что до того, кто... Братья, получив сведения о том, что есть свидетель, запаниковали так же, как и секретарь. И решили замести следы - разумеется, кого-то наняв. И Реуцкий, действительно, об этом, скорее всего, не знал. Более того, судя по тому, что вы мне о нем рассказали, такой откровенной глупости он бы не позволил. Так что тут его обвинять не в чем.
Гуров понял, что у него остался всего один вопрос:
- Теперь - домой?
- Нет, не домой, - к удивлению Гурова ответил Филиппов. - Ни вы, ни я домой не едем.
- Почему? - спросил опешивший Гуров.
- Потому что ваше появление в столице теперь нежелательно. Мне дали понять это вполне недвусмысленно. Видимо, сведения о вашей осведомленности кому-то не понравились. Но с другой стороны - и оценка ваших способностей до столицы дошла. Подозреваю в этом господина Реуцкого-Рябушинского. И поздравляю вас с повышением, Федор Иванович! - торжественно сообщил Филиппов. - Бог услышал наши сбивчивые сыщицкие молитвы, и сыскные отделения сейчас создаются во всех крупных городах империи. Высочайшим указом вы назначены начальником сыскного отделения при канцелярии харьковского обер-полицмейстера. Я этого человека хорошо знаю и думаю, вы сработаетесь. Кроме того, по сыскной части вы по-прежнему будете подчиняться мне, потому что меня тоже ждет небольшое повышение. Ну как вам такой поворотец, а? - рассмеялся Филиппов.
Гуров подумал о том, что в Санкт-Петербурге его ничто, в сущности, не держало, а Харьков ему понравился. Размышлять тут было не о чем, да и согласия его никто не спрашивал.
- Что теперь? - спросил он.
- А теперь едемте говорить с местным начальством, решать вопросы организации вашей службы. Сначала к обер-полицмейстеру, потом - к губернатору. Собирайтесь же, мне надо успеть на вечерний до Киева. Там тоже создается отделение, а ваш покорный слуга, похоже, обречен кататься по городам и весям, строя сыскную службу России. А пока расскажите подробнее о местном губернаторе. Как он вам?
Через несколько минут сыщики вышли из гостиницы и сели в пролетку.
Почти все герои нашей истории - реально существовавшие персонажи. Ниже - о том, что случилось с некоторыми из них.
Владимир Гаврилович Филиппов был назначен начальником петербургской сыскной полиции и лично расследовал много резонансных дел. Кроме того, сделал много для организации сыска в России - создал "летучие отряды", прообраз современного спецназа, справочное и дактилоскопические бюро и внедрил еще ряд новшеств, которые вывели российский сыск на принципиально новый уровень. Дослужился до действительного статского советника, после революции эмигрировал в США.
Герман Августович Тобизен, харьковский губернатор, через год после этих событий был назначен сенатором. Умер, пребывая в этой должности, в 1917 году.
Христина Даниловна Алчевская продолжила свою педагогическую деятельность. После революции как "известная деятельница народного образования" получила одну из первых персональных пенсий от советской власти.
Христина Алексеевна Алчевская стала известным украинским драматургом, поэтессой и прозаиком. Преподавала. Дружила с Анри Барбюсом. Много переводила - на украинский язык Александра Пушкина и Жюля Верна, на русский - Ивана Франко, на французский – Тараса Шевченко и Павла Тычину.
Николай Иванович Михновский стал одним из основоположников украинского национализма. Организовал свою партию, принимал активное участие в деятельности Центральной Рады. Оказался на Кубани, пытался бежать с деникинцами, но его не взяли на корабль как "известного непримиримого врага России". Вернулся в Киев, был арестован, но потом отпущен НКВД. Повесился в 1924 году.
Алексей Николаевич Бекетов вошел в историю как известный российский и советский архитектор, по проектам которого в Харькове было построено более 40 зданий. Получил звание заслуженного деятеля искусств Украинской СССР. Преподавал в ХПИ, ХИСИ и ХИИКСЕ, воспитав целую плеяду выдающихся архитекторов. Умер в оккупированном немцами Харькове в 1941 году.
Николай Петрович Тринклер стал профессором, одним из основателей Российского общества хирургов, был членом Нобелевского комитета. Прославился исследованиями в области онкологии. Во время революции передал свою частную больницу государству, но остался ее директором. Умер в 1925 году, будучи профессором Харьковского медицинского института.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) умер этим же летом 1901-го года, войдя в историю как один из самых вдохновенных проповедников своего времени и последовательный борец с ересями.
Купцы Рябушинские получили полный контроль над предприятиями Алчевского и с лихвой вернули средства, которые им задолжал покойный. Это был лишь один эпизод в их весьма агрессивной как для России коммерческой деятельности. В историю эти люди вошли как едва ли не первые российские рейдеры.
Михаил Павлович Рябушинский продолжил свою весьма нетривиальную коммерческую деятельность, которая закончилась по понятным причинам в 1917 году. Будучи в эмиграции в Лондоне, он открыл банк, который разорился. Прочие его коммерческие предприятия тоже не имели успеха на чужбине, и он умер в 1960 году в лондонской больнице для бедных.
Члены правления Земельного банка Евгений Любарский-Письменный, Николай Орлов и Михаил Журавлев были осуждены за финансовые махинации и приговорены к отправке на несколько лет в исправительные арестантские отделения.
Елена Владимировна Любарская-Письменная продолжала воевать с Рябушинскими и даже добилась того, что Витте публично признал, "что в действиях членов правления банков отсутствует преступление". После смерти мужа уехала в Париж, где была зарезана своим сутенером.
О дальнейшей судьбе остальных героев мы обязательно расскажем, потому что
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Владимир Гаврилович Филиппов был назначен начальником петербургской сыскной полиции и лично расследовал много резонансных дел. Кроме того, сделал много для организации сыска в России - создал "летучие отряды", прообраз современного спецназа, справочное и дактилоскопические бюро и внедрил еще ряд новшеств, которые вывели российский сыск на принципиально новый уровень. Дослужился до действительного статского советника, после революции эмигрировал в США.
Герман Августович Тобизен, харьковский губернатор, через год после этих событий был назначен сенатором. Умер, пребывая в этой должности, в 1917 году.
Христина Даниловна Алчевская продолжила свою педагогическую деятельность. После революции как "известная деятельница народного образования" получила одну из первых персональных пенсий от советской власти.
Христина Алексеевна Алчевская стала известным украинским драматургом, поэтессой и прозаиком. Преподавала. Дружила с Анри Барбюсом. Много переводила - на украинский язык Александра Пушкина и Жюля Верна, на русский - Ивана Франко, на французский – Тараса Шевченко и Павла Тычину.
Николай Иванович Михновский стал одним из основоположников украинского национализма. Организовал свою партию, принимал активное участие в деятельности Центральной Рады. Оказался на Кубани, пытался бежать с деникинцами, но его не взяли на корабль как "известного непримиримого врага России". Вернулся в Киев, был арестован, но потом отпущен НКВД. Повесился в 1924 году.
Алексей Николаевич Бекетов вошел в историю как известный российский и советский архитектор, по проектам которого в Харькове было построено более 40 зданий. Получил звание заслуженного деятеля искусств Украинской СССР. Преподавал в ХПИ, ХИСИ и ХИИКСЕ, воспитав целую плеяду выдающихся архитекторов. Умер в оккупированном немцами Харькове в 1941 году.
Николай Петрович Тринклер стал профессором, одним из основателей Российского общества хирургов, был членом Нобелевского комитета. Прославился исследованиями в области онкологии. Во время революции передал свою частную больницу государству, но остался ее директором. Умер в 1925 году, будучи профессором Харьковского медицинского института.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) умер этим же летом 1901-го года, войдя в историю как один из самых вдохновенных проповедников своего времени и последовательный борец с ересями.
Купцы Рябушинские получили полный контроль над предприятиями Алчевского и с лихвой вернули средства, которые им задолжал покойный. Это был лишь один эпизод в их весьма агрессивной как для России коммерческой деятельности. В историю эти люди вошли как едва ли не первые российские рейдеры.
Михаил Павлович Рябушинский продолжил свою весьма нетривиальную коммерческую деятельность, которая закончилась по понятным причинам в 1917 году. Будучи в эмиграции в Лондоне, он открыл банк, который разорился. Прочие его коммерческие предприятия тоже не имели успеха на чужбине, и он умер в 1960 году в лондонской больнице для бедных.
Члены правления Земельного банка Евгений Любарский-Письменный, Николай Орлов и Михаил Журавлев были осуждены за финансовые махинации и приговорены к отправке на несколько лет в исправительные арестантские отделения.
Елена Владимировна Любарская-Письменная продолжала воевать с Рябушинскими и даже добилась того, что Витте публично признал, "что в действиях членов правления банков отсутствует преступление". После смерти мужа уехала в Париж, где была зарезана своим сутенером.
О дальнейшей судьбе остальных героев мы обязательно расскажем, потому что
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ